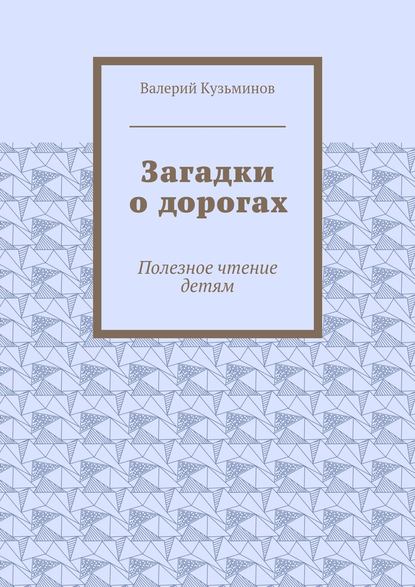- -
- 100%
- +
Фелисада осталась сидеть, глядя на пар, поднимающийся над миской. Она медленно провела ладонью по поверхности перины, ощущая под холстиной мягкую, податливую упругость лебяжьего пуха. Сидела, сжимая в руках деревянную ложку, и в душе её разливалось тёплое, щемящее чувство. О ней заботились.
День выдался ясным и морозным. После завтрака, который проходил в привычном, деловом молчании, Тимофей Степанович, доев, отодвинул скамью.
– Пойдём, Степан, коней подковывать пора. Кузнец ждет. – И, не глядя, добавил: – Фелисадину кобылицу тоже посмотри. У неё, помнится, на левую подкову заминается.
Степан лишь кивнул, но по тому, как он взглянул на отца, было ясно – он оценил это упоминание. Для Тимофея её лошадь уже стала частью общего хозяйства.
Едва мужчины вышли, Фелисада поднялась и потянулась к пустым мискам. Её движение было естественным, привычным – так она делала каждое утро в своём доме.
– Дай-ка, – спокойно сказала Марфа Игнатьевна, мягко отодвинув её руку. – Твоя очередь не пришла еще. Ванька!
Мальчишка тут же вскочил с лавки.
– Ступай, кур покорми да яйца собери. А потом дров в сени подкинь, чтобы под рукой были.
– Я, мамка, всё сделаю! – и шустро юркнул за дверь.
Марфа повернулась к Фелисаде, и в её глазах мелькнуло одобрение.
– Не зарься покуда. Работа не волк, в лес не убежит. Осмотрись сперва. Хозяйство наше – не за день изучается.
Сама она, накинув платок, направилась в кладовую. Фелисада осталась одна. Её порыв быть полезной вежливо пресекли, но в этом не было отказа – был ритм, порядок и ясное место для неё в этой новой жизни.
Она заглянула в прохладную, пахнущую квашеной капустой, солёными грибами и землёй кладовку, пробралась на скотный двор, где коровы лениво жевали жвачку, провела рукой по шершавой коре столетней ели у ворот. Этот двор был ей знаком с детства, но теперь он стал её крепостью, её ответственностью.
– Фель, а Фель! – раздался сзади звонкий голос. Это Ванька, запыхавшийся, с охапкой дров. – Хошь, голубей покажу? У меня на сарае лучшие по всему Тихояру!
Скинул в сенях дрова, выскочил, схватил её за рукав и потащил за собой. И она, улыбаясь, пошла, слушая его восторженную болтовню. Эта мальчишечья непосредственность растопила последние крохи скованности.
После обеда Марфа Игнатьевна позвала её.
– Подь-ка сюда, Фелисада. Поможешь гусиный пух разобрать, на подушки пора. А лебяжий-то, на перину, – он уж давно готов, берегу.
Они уселись на лавке у окна. Марфа Игнатьевна достала большой холщовый мешок. Воздух наполнился лёгкими пушинками.
– Лебяжий-то ещё мой батюшка из-за Урала, с ярмарки, привёз, – словно про себя заметила она. – Пол империала, сказывали, отдал. Так он с тех пор и живёт, бережёный…
Они молча начали перебирать пух, отделяя мелкий от тяжёлых перьев.
– У тебя, Феля, руки… лёгкие, – продолжала Марфа Игнатьевна, наблюдая, как пух ложится в лукошко ровным слоем. – От бабки твоей, знать, дар. У неё, покойницы, так же ловко всё в руках спорилось. Помню я.
Фелисада лишь кивнула, сжимая в пальцах горсть тёплого пуха. Её принимали.
За ужином Тимофей Степанович, доев свою порцию щей, отодвинул пустую миску. Он сидел неподвижно, глядя перед собой, и все ждали, к кому он обратится. Он медленно повернул голову и молча протянул миску через стол Фелисаде. Не приказ – просьба.
Фелисада, затаив дыхание, взяла миску и пошла к печи за добавкой. Она чувствовала на себе спокойный взгляд Марфы Игнатьевны и видела, как Степан, сидевший рядом, опустил глаза, но уголки его губ дрогнули в сдержанной улыбке.
Позже, когда Ваньку уложили на полати, а родители ушли к себе, они остались одни. Степан достал из заветного сундука толстую, очень старую тетрадь в кожаном переплёте с выдавленной в коже надписью: «РОДЪ АЛЕКСЕЕВЫХЪ»
– Родовая книга, – тихо сказал он. – Тут все Алексеевы, кто от нашего корня.
Они сидели рядом на лавке, плечом к плечу, и он медленно перелистывал пожелтевшие страницы, испещрённые корявым, но твёрдым почерком. «Алексеев Тимофей Степанович… Алексеева Марфа Игнатьевна… Алексеев Степан Тимофеевич… Алексеев Иван Тимофеевич».
Он обмакнул в чернильницу перо и с той же неторопливой важностью, с какой его отец когда-то вписывал его самого, вывел ниже: «Алексеева Фелисада Васильевна. Степанова жена. Свадьба была на Покров 1929 года».
Она смотрела на своё имя, вписанное его рукой в историю этого дома, и чувствовала, как что-то окончательно и бесповоротно встаёт на своё место.
На следующее утро выпал первый щедрый снег. Выглянув в окно, она увидела, как мимо их ворот медленно проезжали сани. В санях, закутанный в тулуп, сидел Игнат Клыков. Он не смотрел в их сторону, будто просто проезжал мимо. Но у самых ворот его лошадь вдруг остановилась, будто споткнувшись. Клыков наклонился, поправил шлею. И в этот момент его взгляд, холодный и цепкий, скользнул по новому срубу их амбара, по аккуратным поленницам дров. Взгляд бухгалтера, составляющего опись. Длилось это всего мгновение. Он дёрнул вожжи и поехал дальше, не оборачиваясь.
Фелисада отошла от окна. Тихо потрескивали дрова в печи и пахло хлебом. Слышно было, как Марфа Игнатьевна перебирает вещи в комоде. С улицы донёсся знакомый, твёрдый шаг Степана. Она глубоко вздохнула. В этом доме было прочно. Но в сердце, словно осколок льда, заползла крошечная, почти неощутимая тревога.
Глава 13
Первый росток
Марфа Игнатьевна разливала чай по кружкам, расставленным на столе. Фелисада молча поставила небольшую глиняную крынку с мёдом, потом масло на деревянной тарелке, как делала это каждое утро. Воздух в горнице был густым и тёплым, пропахшим печью и свежим хлебом – запахом, ставшим для неё родным за эти месяцы.
Передавая свекрови расписную деревянную ложечку для мёда, Фелисада задержала её на мгновение в своей руке и, не поднимая глаз, тихо, но отчётливо сказала:
– Мам, держи.
Рука Марфы Игнатьевны, тянувшаяся за ложкой, замерла. Она медленно подняла глаза на сноху. Ни удивления, ни восторга в её взгляде не было – лишь глубокая, спокойная ясность, будто она ждала этого с самого начала.
– Спасибо, дочка, – просто ответила она, принимая ложку.
Степан, сидевший напротив, не смог сдержать улыбку. Тимофей Степанович, доедая кашу, лишь крякнул:
– А меня, выходит, тятей кличь. Чего уж там. – Но в его прищуренных глазах светилась редкая мягкость.
После завтрака Фелисада перебежала через улицу. Мать как раз подметала крыльцо.
– Мам, – начала она, запинаясь, – у меня… что-то не так. То в жар бросит, то холодно. И по утрам… тошнит. Переживаю я, не захворала ли?
Татьяна остановилась, внимательно и долго посмотрела на дочь. В её глазах мелькнуло понимание, а за ним – тихая радость.
– Это, доченька, не хворь, – тихо сказала она, беря её за руку. – Это… дитятко. У тебя под сердцем ребёночек.
Фелисада от неожиданности прислонилась к косяку. Сперва в голове стало пусто и тихо, будто ветром все мысли вымело. Потом, через секунду, хлынуло разом – и испуг, и радость, и растерянность, перехватив дыхание. Она смотрела на мать широко раскрытыми глазами, сама не зная, что чувствует, – только что земля под ногами была тверда, а теперь плывёт куда-то.
– Степану скажешь? – спросила Татьяна.
– Скажу… – выдохнула Фелисада, и губы сами сложились в растерянную улыбку.
Она дождалась вечера, когда дом затих, опускаясь в ночь. Привычно лежа под обнимающей рукой мужа, тихо сказала ему в подмышку, пытаясь укоротить свое зачастившее вдруг от волнения сердце:
– Стёпушка…– начала она, запинаясь, и потупилась, вдруг смутившись. – У меня… к тебе разговор есть…Важный…
Он посмотрел на нее с вопросом, но молчал, давая ей собраться с мыслями.
– Я, стало быть… – она сглотнула, с силой сжала его руку, будто ища опоры, и выдохнула: – Мы с тобой… к концу лета… родителями станем.
Степан замер. Он не шевелился, глядя на неё, и в его глазах происходила сложная работа: сначала непонимание, потом медленное проникновение в суть сказанного, и наконец – ослепительная, чистая радость!
– Феля… – выдохнул он горячечным шепотом. – Правда?
– Правда, Степушка, правда, – она кивнула, и слёзы покатились по её пылающим щекам.
Он не мог больше ничего говорить. Просто притянул её к себе крепче, прижал к груди, и она слышала, как гулко и радостно стучит его сердце.
На следующее утро за завтраком Степан был необычно молчалив и сосредоточен. Когда Марфа Игнатьевна поставила перед ним миску с кашей, он поднял на неё глаза.
– Мама, отец, – сказал он твёрдо, все обернулись на него. – У нас с Фелисадой… будет ребёнок. К осени.
Марфа Игнатьевна выпрямилась. Её лицо озарилось редкой, светлою улыбкой.
– Ну, слава Тебе, Господи, – прошептала она, быстро перекрестившись. – Новый мужичок в доме будет. Радость-то какая…
Тимофей Степанович откашлялся. Помолчал немного.
– Дело это важное, – произнёс он, серьезно глядя на сына. – Теперь ты не за двоих в ответе. За троих. Понимаешь?
– Понимаю, батя, – так же твёрдо ответил Степан.
Их жизнь потекла в новом, бережном ритме. Степан теперь окружал Фелисаду молчаливой, но непрестанной заботой. Он сам приносил дрова к печке, чтобы она не поднимала тяжелого, сам ходил по воду в морозные утра, ворча: «Сиди уже, не то упадёшь». По вечерам, как все улягутся, в тёплой темноте своей комнатки, они говорили шёпотом.
– Боишься? – как-то раз спросил он, лежа рядом и положив ладонь на её слегка округлившийся живот.
– С тобой – нет, – ответила она, прижимаясь к его плечу. – Только… чтоб дитя здоровенькое. Чтоб всё у него было.
– Всё будет, – твёрдо сказал он. – Я так устрою. Сын будет. Вот чую я, что сын… И землю свою будет пахать, и грамоте выучится. Всё.
Он говорил о будущем сына так, как будто этот мир – прочный и нерушимый, каким он был всегда. И Фелисада верила ему, потому что в его спокойной уверенности была сила, способная заткнуть за пояс любую тревогу.
Как-то ночью она проснулась от толчка внутри. Не резкого, а мягкого, будто рыбка в воде чуть шевельнулась. Она замерла, прислушиваясь к новому ощущению. Потом тихо тронула Степана за плечо.
– Степа… Пошевельнулся.
Он мгновенно проснулся, будто и не спал. Повернулся, и в лунном свете его глаза были широко раскрыты.
– Правда? Где? – он осторожно, почти с благоговением, прикоснулся к её животу.
Они лежали молча, прижавшись друг к другу лбами, и ждали. И когда спустя несколько минут последовал новый, робкий толчок, Степан тихо ахнул, и его пальцы дрогнули.
– Сильный, – прошептал он с гордостью. – Будет работник.
– Или рукодельница, – улыбнулась она в темноте.
– Всё равно, – сказал он. – Лишь бы жил. И счастливый был.
Они заснули под утро, сплетясь руками, как корни одного дерева. А за стенами их дома стояла сибирская зима – суровая, но знакомая, и пока ещё ничто не предвещало бури.
Глава 14
Сходка
(Июль. 1930 год)
Последний день июля выдался на редкость душным. Воздух над Тихояром был густым и неподвижным, пахло пылью и горячей смолой, сочащейся из трещин в сосновых брёвнах домов.
В тот же день по селу пронёсся слух: вечером, после работы, у сельсовета сходка. Всем явиться обязательно.
К вечеру со стороны сельсовета загудел призывный, тревожный звон – били в подвешенный на столбе рельс.
Народ сходился медленно, нехотя. Алексеевы шли вместе, как и полагалось большой семьёй. Тимофей Степанович – впереди, ссутулившись, руки за спиной, Марфа Игнатьевна – чуть позади, с наморщенным, озабоченным лбом. Степан шёл рядом с отцом, чувствуя, как с каждой минутой в груди нарастает тяжёлый, холодный камень. Ванька не отставал от брата, но примолк – чуял, что взрослым сейчас не до веселья. Фелисаду, бывшую на сносях, уже вторую неделю оберегали от любого волнения и оставили дома с её матерью, Татьяной.
Мужики стояли кучками, курили, перебрасывались короткими, отрывистыми фразами. Бабы, собравшись отдельно, перешёптывались, кося взгляды на крыльцо.
Собрались все – мужики, бабы, даже старики с палками и подростки. Стояли тесной, настороженной массой. На крыльце, за столом, покрытым кумачом, сидел Игнат Клыков и незнакомец в форменной гимнастёрке, с кожаным портфелем – уполномоченный из района. Лицо у него было жёсткое, непроницаемое.
Когда народ собрался, Клыков, откашлявшись, поднял руку:
– Тихо, граждане! Слово предоставляется товарищу Зимину, уполномоченному райкома!
Человек в гимнастёрке встал. Голос у него был негромкий, но резкий, с металлическими нотками, и он резал душный воздух, как наточенный нож.
– Товарищи крестьяне! – начал он, окидывая толпу холодным, скользящим взглядом. – Враги народа, кулаки и подкулачники, саботируют хлебозаготовки, срывают планы советской власти! – без предисловий вбрасывал он в толпу страшные слова. – Живёте вы, как в потёмках. Одни – в достатке, на чужом горбу, а другие – в нищете и темноте. Село стоит на распутье. Один путь – это путь кулака, путь спекулянта и врага. Другой путь – это путь в светлое будущее, путь в колхоз! Вступление – добровольное, это ваш сознательный выбор. Но каждый, кто останется в стороне, тем самым причисляет себя к враждебным элементам! Пора покончить с этой кулацкой кабалой! Пора строить новую, светлую жизнь! А для этого каждому честному труженику – дорога в колхоз «Красный пахарь»!
В толпе зашевелились. Послышались негромкие, сдержанные возгласы.
– Какая такая кабала? Мы миром жили…
– Добровольно, говоришь? А коли не хочешь в энтот колхоз?
В толпе пронёсся гул. Из группы женщин выкрикнула Дарья, держа за руку испуганного малыша:
– А как же наша земля? Её еще предки мои пахали! Мы на ей сроду!
– Земля – отныне собственность всего народа! – отрезал уполномоченный. – В колхозе вы будете работать на себя, но коллективом! Инвентарь, лошади, коровы, в общем, весь скот и птица – всё будет общим для более рационального и ударного труда!
– Значит, мой конь – уже не мой? – раздался полный боли голос из толпы мужиков.
– Твой конь тоже станет общим! А ты получишь его во временное пользование, если понадобится, когда колхоз разрешит! – парировал оратор.
– А корову тоже в общую будем за титьки дергать? – крикнула ещё одна баба. – И детей с общего ушата кормить?
В толпе пробежался нервный, горький смешок, все загомонили.
Тут в разговор вступил Клыков, обращаясь к толпе с показным, натянутым воодушевлением:
– Слышите, односельчане? Нам открывают дорогу в новую жизнь! Нечего цепляться за старый, кулацкий уклад! Кто за колхоз – подходи, записывайся!
Народ зашумел – не радостно, а тревожно, зло.
– А как же те, кто не хочет в энтот колхоз? – снова упрямо спросил кто-то из задних рядов.
Уполномоченный холодно оглядел толпу.
– Не хотите идти в колхоз добровольно – пойдёте по статье. У советской власти хватит сил проучить саботажников. Всем ясно?
Наступила тягостная пауза. Никто не двигался к столу для записи. Люди стояли, опустив головы, сжимая кулаки. Воздух был наполнен немой яростью и нарастающим страхом.
Степан, стоявший с отцом, прошептал, почти не разжимая губ:
– Слышишь, батя? «Добровольно». А не запишешься – враг. Значит, наше – уже не наше.
Тимофей молчал. Он смотрел куда-то поверх голов и в его застывшем, суровом лице была видна вся глубина надвигающейся беды.
Уполномоченный, не меняя выражения лица, продолжал, словно не слыша:
– Колхоз – это ваше будущее. Ваша сила. А кто против колхоза – тот против советской власти. Тот – враг. И с врагами у нас разговор короткий.
Он сделал паузу, давая словам висеть в настороженной тишине. Потом его взгляд, как шило, упёрся в Тимофея.
– Вот, к примеру, хозяйство Алексеевых. Две лошади, две коровы, свиней не перечесть, птицы полон двор, маслобойка своя и земли пахотной – не объедешь! А у соседа – одна коза на весь двор. Справедливо это? Нет! Это – эксплуатация! Это – кулацкое засилье!
Тимофей Степанович, до этого стоявший, опустив голову, резко выпрямился. Лицо его налилось тёмной кровью.
– Я и мои деды-прадеды эту землю кровью и потом полили! – голос его прорвался громом, перекрывая гул толпы. – МеханизЬму свою я и сын мой на горбу выносили! Каждая копейка – трудовым потом добыта! А ты приходишь и говоришь – враг?!
– Твою «механизьму» трудовой народ и получит, – холодно, почти бесстрастно парировал Зимин. – А тебе, Алексеев, пора определиться. С нами ты или против нас.
И тут же, как по команде, Прохор Горшков, выставив вперёд острый подбородок, крикнул:
– Долой кулаков! Долой мироедов!
Его поддержали ещё несколько голосов – те, кто тоже надеялся урвать кусок от чужого добра.
– Записывайсь в колхоз, братцы! – уже увереннее кричал Прохор, обращаясь к толпе. – Земля – общая, инвентарь – общий! Все всем поровну!
Нашлись и те, кто, потупив взгляд, стал пробираться к крыльцу, чтобы записаться. В основном – беднота, не имевшая почти ничего, да те, кто панически боялся власти. Сходка раскололась. Возник гул, спор, кое-где мужики уже хватались за грудки. Клыков и уполномоченный наблюдали.
Алексеевы, не дожидаясь конца, молча, не глядя по сторонам, развернулись и пошли домой. За спинами неслось:
– Правильно! Довольно на бедняцкой шее сидеть!
– В колхоз! В колхоз!
Они шли, и каждый шаг отдавался в сердце тяжёлым предчувствием. Война была объявлена. Тихояр больше не был миром.
Дом встретил их гробовой тишиной. Фелисада сидела на лавке у раскрытого окна, бледная, с испуганными глазами. Татьяна, стоя рядом, сжимала её руку в своей. Они всё слышали – и гул толпы, и отдельные крики, долетавшие с площади.
– Батя? – тихо спросил Степан, глядя на потемневшее лицо отца.
Тимофей Степанович молча сгрёб со стола горсть деревянных ложек и с силой швырнул их на пол. Те глухо забарабанили, рассыпаясь.
– Всё, – хрипло выдохнул он. – Конец. Колхоз тут… «Красный пахарь»… Зажиточных назвали поимённо. Механизьму нашу помянули.
Фелисада, услышав это, резко встала. Лицо её исказилось не то от страха, не то от боли. Она сделала шаг, схватилась за стол, чтобы не упасть.
– Ой, мамочки… – простонала она, и её пальцы побелели, впиваясь в дерево. – Мама, кажись, началось…
Татьяна бросилась к дочери, подхватив её.
– Марфа, подсоби мне, подержи её! Степан, торопись, затопляй баню! Да воды побольше наноси туда. Сразу чан и ставь!
В горнице началась суета, забившая собой всё – и страх, и гнев, и отчаяние. Начиналась другая, главная битва – за новую жизнь.
Глава 15
Колюня
Дом застыл в тяжёлой тишине, полной страха и ожидания, но само действо, ради которого все затаили дыхание, происходило не здесь, а во дворе, в почерневшей от времени бане.
Степан и Тимофей остались в избе. Отец, мрачный как грозовая туча, тяжело опустился на лавку. Степан вышел на крыльцо, сжимая и разжимая кулаки. Каждый приглушённый звук, долетавший из бани, заставлял его вздрагивать. Он не мог защитить семью от произвола и не мог разделить с женой её муки. Он был изгнан из того единственного места, где сейчас решалась судьба его нового мира.
За высоким забором, в двадцати шагах от избы, баня пыхтела, как живой тёплый зверь. Из-под её двери стелился пар, смешиваясь с морозной дымкой. Внутри пахло жаром раскалённых камней, дубовым веником, варёной травой ромашки и кипятком. Здесь, в этой чистой баньке, из полутьмы и жара, рождалось продолжение.
Марфа Игнатьевна и Татьяна деловито сновали туда-сюда, их силуэты мелькали в квадрате чуть освещённого оконца. Главенствовала там старая повитуха Арина Потаповна, которую срочно привели из дальнего конца села. Её скрипучий, повелительный голос изредка пробивался сквозь стены:
– Терпи, милая, терпи. Все мы через это проходили. Родишь – забудешь. Дыши, легче станет! Боль – она тебе не враг. Она, как огонь, который надо раздуть. Дуй в него – и попрёшь.
Фелисада не кричала. Лишь иногда раздавался её сдавленный, надрывный стон, от которого у Степана леденела кровь.
Ночь была тёплой и тёмной, без звёзд. Издали, со стороны сельсовета, ещё доносились приглушённые голоса. Село затихало, переваривая случившееся. Он сел на ступеньку, опустил голову на руки. В ушах стояли слова уполномоченного: «…кулацкое засилье… механизьму… враг…». И тут же, поверх них, – хриплый стон жены из тёмного сруба бани. Весь мир сузился до этого двора, до этого клубка боли и надежды.
Когда предрассветная мгла начала синеть, баня вдруг замолкла. Эта новая тишина была страшнее стонов. Потом дверь скрипнула. На порог, окутанная клубами пара, вышла Арина Потаповна. Она несла на руках дитя, завёрнутого в тонкое одеяльце.
– Ну, приняла твоя банька богатыря, – сказала она, направляясь к крыльцу. Усталое лицо её светилось профессиональной гордостью. – Пацанёнок. Крепкий, голосистый. Поздравляю, Степан Тимофеич, с сыном. Теперь уж ты настоящий хозяин.
Она бережно вложила ему в руки тёплый, туго завёрнутый свёрток. Он был удивительно тяжёлый, живой. Степан, затаив дыхание, отогнул край одеяльца. Там, среди белых пелёнок, было крошечное, красное, сморщенное личико. Маленький ротик беззубо кривился, и из него исходил тонкий, чистый, как хрустальный колокольчик, плач.
– Колюня… – прошептал Степан. Слово сорвалось с губ само собой, рождённое безотчётной нежностью, которая вдруг затопила всё его существо, оттеснив на мгновение и гнев, и страх.
Тимофей Степанович медленно вышел на крыльцо. Подошёл, заглянул через плечо сына. Его суровое лицо дрогнуло, в жёстких складках у рта заплясала неумелая улыбка.
– Внук, – произнёс он глухо. – Алексеев. Крепкий, да… – Он потрогал пальцем, шершавым, как наждак, крошечную ручку. – Работник будет.
Марфа Игнатьевна, стоявшая в дверях бани, вытирала руки о фартук. По её лицу текли беззвучные слёзы. Но это были слёзы не только радости. В них была и гордость, и бесконечная жалость, и леденящий душу ужас перед тем, что ждёт этого новорождённого человека в мире, который сходит с ума.
Когда Фелисаду, чистую, укутанную, перенесли в горницу и уложили на кровать, Степан вошёл к ней. Она лежала измождённая, бледная, но глаза её сияли странным, нездешним светом. Она слабо улыбнулась.
– Смотри, Стёпа, какой… – прошептала она.
Он бережно опустился на колени у постели и протянул ей сына. Она приняла его, прижала к груди, и её движения были уже уверенными, природными. Она смотрела на личико младенца с таким обожанием и такой тоской, что у Степана снова сжалось сердце.
– Николай Степанович Алексеев, – торжественно произнесла Татьяна, перекрестив внука. – В добрый час, внучок. В добрый час.
Рассвет за окном разгорался, наполняя горницу солнцем. В доме пахло хлебом, кипятком и чем-то новым, детским. Было тихо. Даже Колюня, устроившись у материнской груди, затих.
За ситцевую занавеску робко просунулась взъерошенная голова Ваньки. Мальчишка, разбуженный ночной суетой, сгорал от любопытства.
– Стёп? – прошептал он, глядя широкими глазами. – А правда, что у вас тут?..
Степан, не поднимаясь с колен, кивнул и махнул брату рукой: – Иди, смотри. Только тихо.
Ванька на цыпочках подкрался к кровати и замер, разглядывая свёрток на руках у Фелисады. Его нос сморщился.
– И он… наш? – с недоверием спросил он, видя красное, сморщенное личико.
– Наш, – устало улыбнулась Фелисада. – Племянник твой. Николаша, Колюнька.
Ванька осторожно, одним пальцем, дотронулся до крошечной, сжатой в кулачок ручки.
– Ма-а-хонький… – с почтительным изумлением протянул он. – А когда он большим будет?
– Вырастет, – проговорил Степан, глядя на брата. – Обязательно вырастет.
Степан сидел на полу у кровати, положив свою большую руку на голову жены. Он смотрел на сына, который забавно посапывал, и в его душу, вместе со щемящей нежностью, вползала тяжёлая, чугунная уверенность. Теперь всё иначе. Теперь он будет бороться. Не за землю, не за дом, не за механизьму. Теперь он будет бороться за этого маленького, тёплого человека, чья первая колыбель была не в доме, а в чистой, тёплой бане – последнем оплоте домашнего уклада, который уже трещал по швам.