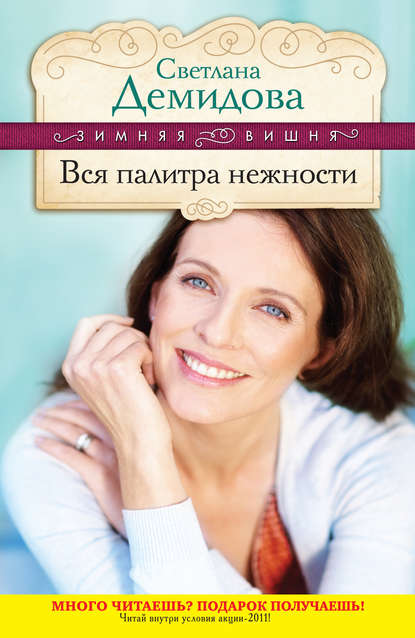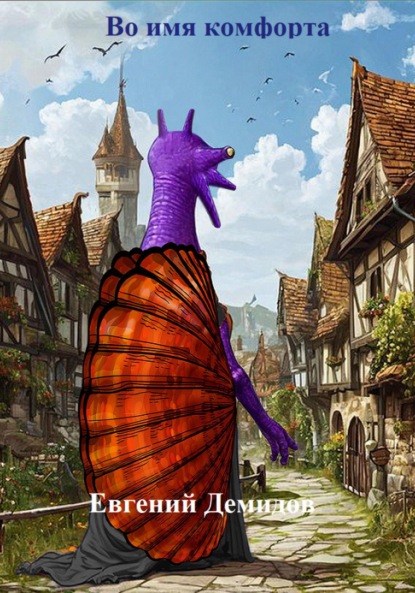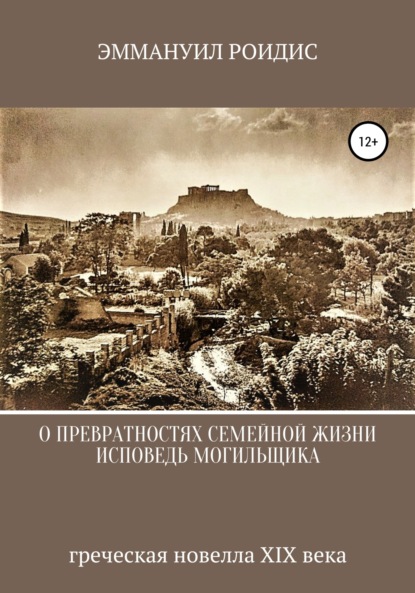Сквозь времена. Том 3
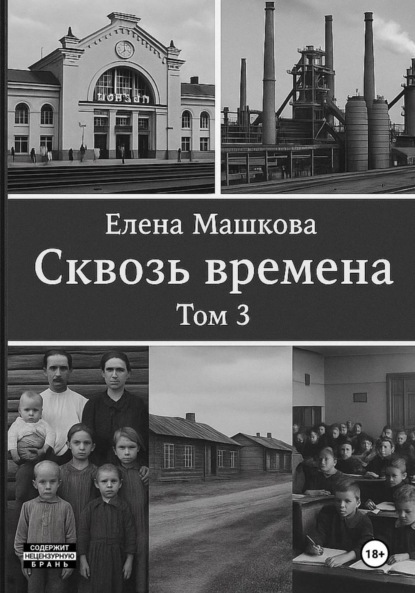
- -
- 100%
- +

Глава 1. Безнаказанность как воздух: детство Зинаиды Мельниковой
Солнце, будто нарочно стараясь разбудить весь дом, уже вовсю разливало по подоконнику золотистый свет. Лучи пробивались сквозь тонкие занавески, рисовали на полу причудливые узоры, а в воздухе, пронизанном солнечными нитями, медленно кружились пылинки – словно крошечные звёзды, упавшие с ночного неба.
В доме стоял привычный шум – тот самый, что с первых секунд пробуждения напоминал: ты не один. Где‑то хлопала дверь, звенела посуда, раздавался звонкий смех, тут же перекрытый возмущённым возгласом, а из дальнего угла доносилось размеренное постукивание – наверное, Пашка снова возился со своим старым велосипедом.
Восемь братьев и сестёр – это не просто семья. Это целый мир, где каждый живёт в своём уголке, со своими заботами, мечтами и капризами. Кто‑то уже мчался на улицу, едва успев проглотить кусок хлеба, кто‑то ворчал, натягивая носки, а кто‑то, наоборот, нежился в постели, делая вид, что не слышит всеобщего переполоха. «Если я проснулся – значит, утро, – вспомнила Зинка слова матери, прислушиваясь к этому привычному хаосу. – А если кто‑то спит и я мешаю – значит, просто не хочет вставать».
Она была самой младшей. Когда Зинка появилась на свет, маме было уже далеко за сорок, и силы, казалось, покидали её с каждым новым днём. Усталость читалась в каждом движении, в едва заметных морщинах у глаз, в том, как она порой задерживала взгляд на детях – будто пыталась запомнить их такими, какие они есть сейчас, пока они ещё рядом.
Но Зинка не чувствовала себя обделённой. Напротив – она знала: у неё есть те, кто всегда прикроет, поддержит, рассмешит, даже если весь мир вдруг решит обрушиться. Особенно Пашка и Даша. Пашка – старший, серьёзный, с вечно испачканными машинным маслом руками, но с улыбкой, от которой становилось теплее. Он учил её чинить сломанные игрушки, рассказывал про звёзды и обещал однажды взять с собой в дальнюю поездку на том самом велосипеде. А Даша – нежная, словно весенний ветер, с волосами, пахнущими полевыми цветами, – заплетала Зине косички, пела перед сном и делилась тайными девичьими секретами.
Зинка потянулась, спустила ноги с кровати и, не глядя, сунула их в тёплые шерстяные носки, которые мама вязала каждой осенью. Сегодня будет хороший день. Она чувствовала это.
Дом семьи Мельниковых притулился на крайней улице посёлка – словно последний страж перед простором, где кончались ухоженные дворы и начиналась широкая полоса отчуждения: вокзал и железная дорога.
Путь от основного посёлка до их жилища пролегал через гулкие стальные пути, через перестук колёс и протяжные гудки составов. Но то, что для иных было границей, для Мельниковых стало источником жизни. Вокзал, этот неумолчный узел движения, кормил их, как кормил и всех, кто жил рядом с его вечно оживлёнными путями.
Каждый день здесь был похож на маленькую пьесу:
с утра – суетливые пассажиры с чемоданами, спешащие на поезд;
днём – грузчики, перекатывающие бочки и ящики, звон цепей и скрип тележек;
к вечеру – возвращающиеся с заработков рабочие, усталые, но с монетами в кармане.
Мельниковы тонко чувствовали ритм вокзала – словно музыкальную партитуру, где каждый звук имел своё значение. Отец брался за разгрузку вагонов, старшие сыновья ловко управлялись с перевозкой багажа, а дочери устраивали у перрона нехитрую торговлю: горячий чай в эмалированных кружках и румяные пирожки с картошкой или капустой.
В этом круговороте движения и суеты семья давно научилась находить свою выгоду. Любой состав – будь то грузовой поезд с таинственными ящиками или пассажирский с суетящимися путешественниками – непременно оставлял в доме Мельниковых хоть небольшую, но столь необходимую копейку.
Да, порой добывали эти копейки не самыми законными путями, снимая с товарных вагонов то, что «плохо лежит». Но в посёлке у железной дороги это давно стало привычным укладом – не преступлением, а способом выжить. Здесь каждый знал: чтобы прокормить большую семью, приходится идти на маленькие хитрости. И Мельниковы не были исключением. Это была их повседневность, их негласная правда жизни у рельсов – где каждый день начинался с гудка паровоза и заканчивался подсчётом заработанных монет.
А по другую сторону улицы, словно противовес железной дороге, угрюмо высился спиртзавод. По утрам его тяжёлый, сладковато‑кислый дух расползался по всему посёлку – пропитывал одежду, оседал на заборах, мешался с запахом угля и свежескошенной травы.
Завод давал работу тем, кто не боялся тяжёлого труда: в цехах царили жара и пар, аппараты гудели день и ночь, а люди выходили с смены с красными глазами и руками, пропитанными едким запахом спирта. Но главное было не в зарплате – та едва покрывала нужды. Жизнь крутилась вокруг того, что удавалось вынести тайком.
Бочки, канистры, даже просто стеклянные банки – всё шло в ход. Кто‑то ухитрялся слить «лишнее» в подпоясанный под рубахой бидон, кто‑то прятал за пазухой пузырьки с драгоценной жидкостью. Это не считалось воровством – скорее необходимым дополнением к скудному жалованью.
Продукция завода – будь то спирт для промышленных нужд или более «доступные» напитки – всегда находила покупателя. В посёлке, да и за его пределами, знали: у ворот спиртзавода можно раздобыть всё, что душе угодно. И Мельниковы, как и многие другие, жили этим негласным промыслом. Ведь когда каждый день – борьба за кусок хлеба, мелкие хитрости становились не грехом, а обыденностью. И потому в доме Мельниковых не знали голода. Не было излишеств, не было роскоши, но всегда был хлеб на столе, всегда были дрова в печи, всегда была одежда по сезону. Жизнь текла неровно, как рельсы, уходящие за горизонт: то под уклон, то в гору, то с резким поворотом, но никогда не останавливалась.
Зинка, просыпаясь под стук колёс и далёкий гудок паровоза, знала: это не просто шум. Это – их жизнь. Это – ритм, в котором бьётся сердце их семьи.
В маленьком посёлке, затерянном среди русских просторов, существовала своя неписаная правда, свой особый уклад, где границы дозволенного размывались, словно туман над утренним полем. Здесь, вдали от бдительного ока больших городов и их строгих порядков, местное население жило по своим законам – законам соседства, круговой поруки и молчаливого согласия.
Безнаказанность – вот что, пожалуй, составляло главную примету здешней жизни. Не абсолютная, не безграничная, но вполне ощутимая: до определённых границ, до той незримой черты, за которую даже самые отчаянные не решались переступить. В этом странном мире, где официальные законы словно теряли свою силу, а негласные правила обретали вес непреложного закона, росла Зинаида.
Её детство и юность прошли в атмосфере, насквозь пропитанной духом вольной, почти разбойничьей жизни. Воздух здесь всегда был напоён тяжёлым, сладковато‑кислым запахом спирта, что тянулся от заводского цеха, растекался по улицам, оседал на крышах домов. Спирт лился рекой – не буквально, конечно, но в переносном смысле вполне осязаемо: он был и валютой, и утешением, и поводом для бесшабашных загулов.
Воровство здесь не считалось грехом – скорее необходимым умением, искусством выживания. Умельцы знали, как снять с товарного вагона то, что «плохо лежит», как вынести с завода лишний бидон спирта, как обменять добытое на хлеб, соль, керосин. А безнаказанность, эта странная свобода от страха наказания, придавала всему происходящему оттенок игры – опасной, но оттого ещё более притягательной.
Зинаида, младшая дочь в многодетной семье Мельниковых, с ранних лет впитала этот дух вольной жизни. Ей, последней в длинном ряду братьев и сестёр, многое позволялось, многое прощалось. В доме, где каждый день был борьбой за существование, где взрослые уставали до изнеможения, а дети рано взрослели, ей редко говорили «нет». Её шалости оставались без строго наказания, её дерзость вызывала скорее улыбку, чем гнев. Она росла в уверенности, что мир устроен именно так – что можно брать, что хочется, говорить, что думаешь, идти туда, куда тянет душа.
И в этом была своя горькая правда: посёлок, даруя ощущение свободы, одновременно лишал её границ. Он учил жить по своим правилам – тем, что писаны не чернилами, а кровью, потом и спиртом. И Зинаида, сама того не ведая, становилась частью этого мира – мира, где безнаказанность была одновременно и даром, и проклятием.
В шестом классе у Зинаиды Мельниковой случился конфликт, перед которым она переступила порог школы в последний раз. Дело вышло вот как.
Стоял промозглый ноябрь 1930‑го. В сельской школе то и дело гасли керосиновые лампы, а в классах царил такой холод, что чернила в чернильницах подёргивались ледяной корочкой.
В классе царила напряженная тишина, нарушаемая лишь скрипом пера и редким, сухим кашлем Марьи Ивановны.
Марья Ивановна, учительница истории, была женщиной строгой, с вечно стянутыми в тугой пучок волосами и глазами, которые, казалось, видели твою душу насквозь. Она преподавала «правильную» историю, и любое сомнение в ней каралось немедленно.
Конфликт назревал вокруг Зинаиды не день и не два – он копился, как грозовая туча на горизонте, вбирая в себя недовольство учителей, косые взгляды одноклассниц, сдержанные упрёки соседей. Зинка и вправду выделялась: одета чуть лучше других – не по‑городскому, конечно, но видно, что мать старается, перешивает старое, подбирает ткани поярче; держится с наглой, почти вызывающей самоуверенностью, словно заранее знает – ей всё простится. Она привыкла, что ей многое сходит с рук: опоздания, небрежность, даже мелкие проделки. Но к учёбе Зинаида относилась с откровенным пренебрежением. Конспекты вела кое‑как – строчки плясали по странице, половина слов сокращена до непонятности, а исторические даты путала так, что однажды всерьёз заявила, будто «Пётр Первый жил в нашем посёлке и пил спирт с завода».
В тот день Марья Ивановна, строгая, с туго зачёсанными волосами и очками на тонкой переносице, проходила тему о «воссоединении» земель.
– Итак, товарищи, – голос Марьи Ивановны звенел металлом, отчеканивая каждое слово, – мы видим, как мудрая политика партии вернула исконные земли! Как откликнулся народ на зов Родины! Зинаида Мельникова, твой ответ. Ты, кажется, читала статью в «Правде»? Объясни нам, как ты понимаешь историческую неизбежность этого акта.
Зинаида медленно подняла глаза от парты, где только что рисовала на полях тетради замысловатые завитки. В классе повисла тишина – даже скрип половиц за дверью словно затих, прислушиваясь. Она не волновалась – привыкла к таким вызовам. Просто не любила, когда её отрывали от мыслей, которые казались куда важнее школьных премудростей.
– Ну… – протянула она, лениво перекладывая перо из одной руки в другую, – это… как его… Ну, земли вернулись. Потому что надо было.
По классу прокатился сдержанный смешок, тут же оборвавшийся под ледяным взглядом учительницы.
– «Надо было»? – Марья Ивановна сняла очки, медленно протёрла их краем платка, не сводя с Зины пристального взгляда. – Зинаида, ты считаешь, что историю определяют расплывчатые «надо было»? А как же классовая борьба? Как же объективные предпосылки? Ты читала статью? Отвечай конкретно.
Зинаида пожала плечами. Ей не хотелось спорить, не хотелось доказывать что‑то, что казалось ей пустым и далёким от настоящей жизни. В её мире всё было проще: есть вокзал, есть спиртзавод, есть семья, есть улица, где каждый знает своё место. А эти «предпосылки» и «акты» – словно другой язык, на котором говорят люди, никогда не таскавшие воду из колодца и не чинившие забор.
– Читала, – буркнула она, глядя в окно, где за стеклом кружился первый осенний лист.
Марья Ивановна побледнела, губы её сжались в тонкую линию.
– Это не просто невежество, Зинаида. Это – непонимание основ, пренебрежение тем, что должно быть свято для каждого советского человека!
Зинаида наконец посмотрела на учительницу – прямо, без страха, но и без вызова. В её глазах читалось не упрямство, а скорее усталое недоумение: зачем всё это? Зачем слова, когда есть дела? Зачем даты, когда есть жизнь – настоящая, с её запахами, шумами, заботами?
Марья Ивановна медленно опустила очки на стол. В глазах учителя вспыхнуло нечто, похожее на ярость. Она шагнул к парте Зинаиды, наклонилась так близко, что девочка почувствовала запах старого сукна и чернил.
– Ты, Мельникова, вылетишь из школы. Поняла?
Зинка посмотрела на учителя – долго, не моргая. Потом медленно собрала книги, сунула их в холщовую сумку, встала и, не говоря ни слова, пошла к двери.
– Ты куда?! – крикнула Марья Ивановна.
Зина обернулась уже в проёме:
– Домой. Мне и там дел хватает.
И вышла.
В классе повисла тишина. Кто‑то шёпотом ахнул, кто‑то переглянулся.
А Зинка шла по скользкой тропинке к дому, и в груди у неё было легко.
На следующий день мать, узнав о случившемся, только вздохнула и сказала:
– Ну что ж… Руки у тебя крепкие. Голодать не будешь.
Так закончилась учебная карьера Зинаиды Мельниковой. Началась взрослая жизнь.
Глава 2. Когда музыка дороже коровы: история одной деревенской сделки
Зинка подошла к треснутому зеркалу, висевшему в сенях. Придирчиво вгляделась в своё отражение, поджав губы. Нос Мельниковых – длинный, с лёгкой горбинкой – казался ей уродливым, слишком заметным. Она провела рукой по волосам, пытаясь пригладить непослушные пряди, но они тут же вернулись в прежнее положение.
«Вот бы быть другой», – подумала она, отворачиваясь от зеркала. Но тут же одёрнула себя – не время жалеть себя. У неё и без того хватало забот.
Выглянув в окно, она увидела, как по улице бежит ватага девчонок – её бывших одноклассниц. Их юбки развевались на ветру, портфели подпрыгивали в такт шагам. Они смеялись, перекрикивали друг друга, не замечая ничего вокруг.
Зинка презрительно фыркнула. Какое им дело до школы? До этих уроков, домашних заданий, вымученных ответов у доски? Она знала то, чего они ещё не понимали: жизнь – это не тетрадные страницы и не оценки в дневнике. Жизнь – это тяжёлый труд, это умение выстоять, это способность найти свой путь.
В груди не было ни капли сожаления о брошенной школе. Наоборот, порой она даже гордилась своим решением. «Глупые, – думала она, наблюдая, как девчонки исчезают за поворотом. – Сидят там, зубрят свои даты, пока можно жить по-настоящему».
Зинка отвернулась от окна. В доме уже пахло завтраком – мать готовила кашу, братья и сёстры потихоньку просыпались. Жизнь продолжалась, и она была частью этой жизни – такой, какая есть, с длинным носом Мельниковых и твёрдым характером.
«Может, и к лучшему, что так вышло», – подумала она, направляясь на кухню. В конце концов, не всем быть отличницами. Кому-то нужно и жизнь строить по-другому.
После завтрака Зинка, Даша и мать собрались на рынок. Зинка нехотя натягивала на себя старенькую кофту, ворча про себя – куда уж ей тащиться в такую рань. Но спорить с матерью было бесполезно.
– Ну что, готово всё? – мать проверила корзины, пересчитала узелки с товаром. – Даша, глянь, всё ли взяла?
Даша, уже одетая по-городскому – в чистеньком платочке и аккуратном платье – деловито кивнула:
– Всё, мам. Я список составила, ничего не забудем.
Зинка только фыркнула:
– И без списков обойдёмся. Не первый раз на рынок идём.
Вышли на улицу. Утренний воздух был прохладным, пахнуло свежестью от недавно прошедшего дождя. Мать шла впереди, не спеша, привычно окидывая взглядом улицу. Даша семенила рядом, то и дело оглядываясь на Зинку.
– Зин, может, всё-таки подумаешь насчёт школы? – в который раз начала она.
– Да сколько можно! – не выдержала Зинка. – В сотый раз одно и то же. Без школы проживу.
Мать, услышав их разговор, обернулась:
– Девочки, не ссорьтесь. Дорога длинная, давайте лучше о хорошем поговорим.
По пути встретили соседку Марью, которая тоже шла на рынок.
– О, Мельниковы! – заулыбалась она. – Опять торговать идёте?
– Идём, идём, – приветливо ответила мать. – Как сама-то?
Вскоре впереди показались торговые ряды, и мысли о школе и образовании тут же вылетели у неё из головы.
– Зинка, ну как же так? – снова начала Даша, старательно придерживая корзинку с товаром. – Ведь без образования сейчас никуда. Вон, в газете писали – в город набирают на курсы счетоводов, а берут только с семилетним образованием.
Зинка лишь хмыкнула, глядя себе под ноги. Дощатый тротуар поскрипывал под их шагами.
– Да ну их, эти курсы, – буркнула она. – Всё равно потом на вокзал работать пойду, как отец.
– А могла бы в конторе сидеть, при свете, – не унималась Даша. – Или в школу пойти работать, как Марья Ивановна. Она же с нашего дома, а теперь вон – уважаемая женщина.
– Уважают её, потому что строгая больно, – фыркнула Зинка. – А я не хочу людей поучать да двойки ставить.
– Эх ты, – покачала головой Даша. – А помнишь, как мама говорила – образование свет, а без него – тьма. Ты же умная, могла бы в районную школу перейти, в седьмой класс.
– Куда мне переходить? – Зинка остановилась, обернулась к сестре. – Кому я там нужна? Тут мне и работа есть, и помогать семье надо. А то все старшие разбегутся, кто тогда матери помогать будет?
– Но ведь жизнь-то одна, – тихо сказала Даша, глядя в сторону вокзала. – Думаешь, не пожалеешь потом?
– Не пожалею, – твёрдо ответила Зинка. – Я своё призвание знаю. Не всем же в конторах сидеть да бумажки перебирать. Кому-то и руками работать надо.
В этот момент их догнала мать, которая шла чуть позади, наблюдая за разговором дочерей.
– Девочки, не спорьте, – мягко сказала она. – Каждая жизнь по-своему складывается. Кто-то в городе судьбу ищет, а кто-то и здесь счастлив бывает. Главное, чтобы дело по душе было.
Зинка заметно смягчилась, услышав слова матери. Даша же лишь вздохнула, понимая, что переубедить сестру вряд ли получится.
– Ладно, – сказала она, – но если передумаешь – я первая скажу, что была права.
Зинка только усмехнулась в ответ, но в глубине души её слова сестры задели. Может, и правда она слишком поспешила с решением? Но гордость не позволяла ей это признать.
С рынка возвращались усталые, но довольные – торговля удалась. Солнце уже клонилось к закату, бросая длинные тени на пыльную дорогу. Зинка шла впереди, поглядывая по сторонам, когда вдруг замерла, прислушиваясь.
– Слышите? – шепнула она, и в её голосе проскользнуло удивление.
Даша с матерью остановились. Из-за поворота доносились знакомые звуки – кто-то играл на гармони. Мелодия лилась плавно, уверенно, словно разливаясь по всей улице.
– Как хорошо играет, прямо душу трогает! – воскликнула Даша, приложив руку к уху, чтобы лучше слышать.
Мать улыбнулась, покачав головой:
– И правда, молодец парень.
Женщины переглянулись и засмеялись. Музыка становилась всё громче, и вскоре они уже различали голоса – кто-то подпевал в такт мелодии. Настроение у всех поднялось, усталость как будто отступила.
– Ну что, идём? – подмигнула мать. – Посмотрим, кто там народ веселит.
И они направились в сторону музыки, где уже собирались соседи, привлечённые прекрасным исполнением. Когда женщины подошли ближе, стало ясно – музыка лилась из-за их собственного двора. Мать даже остановилась от неожиданности:
– Господи, да это же у нас во дворе!
Зинка первой завернула за угол и замерла. На их старой лавке, под раскидистым клёном, сидел Витя с новой гармонью. Инструмент сверкал начищенными кнопками, переливался на закатном солнце. Рядом, на ступеньках крыльца, примостились Серёжа с Валей – подпевали, отбивая такт ногами.
– Ну надо же! – всплеснула руками мать, подходя ближе. – Витенька, да ты прямо артист!
Витя смущённо улыбнулся, но играть не перестал. Его пальцы летали по кнопкам с удивительной лёгкостью, извлекая из гармошки то нежные, то задорные звуки. Серёжа с Валей подхватили новую песню, их голоса слились в приятное многоголосье.
Уставшая после рынка мать опустилась на лавку, прислонилась к тёплому боку дома. Слушала, прикрыв глаза, и улыбка не сходила с её лица. Даша присела рядом, заворожённо наблюдая за братом.
Соседи начали собираться вокруг, привлечённые музыкой. Кто-то присаживался на корточки, кто-то просто стоял, слушая. Вскоре двор наполнился людьми, а музыка разливалась всё шире, словно пытаясь коснуться каждого сердца.
– Вот это да, – негромко произнесла мать, – растёт у нас настоящий музыкант. Глядишь, и в город поедет учиться.
Витя, услышав похвалу, только ещё больше раскраснелся, но играть не перестал – мелодия лилась всё так же красиво и чисто.
Мать, присев на лавку, погрузилась в воспоминания. Звуки гармони, пение детей, усталость после рынка – всё это словно приоткрыло дверь в её молодость.
…Ей было пятнадцать, когда он впервые увидел её. Иван шёл по деревенской улице, возвращался с покоса, и вдруг заметил её – она набирала воду из колодца. Румяная, с косами до пояса, в цветастом сарафане. Он остановился как вкопанный, потом прокашлялся и шагнул к ней.
– Здравствуй, красавица, – голос его чуть дрогнул от смущения. – Не подскажешь, как пройти к дому кузнеца?
Она подняла на него глаза, улыбнулась:
– А ты прямо иди, у третьей избы налево свернёшь. Только кузнец сейчас в отъезде, вернётся не скоро.
– А я не к нему вовсе, – признался Иван, – просто увидел тебя и решил заговорить.
Она зарделась, опустила глаза:
– Ну, раз так, то ступай своей дорогой.
– Может, проводишь? – осмелел он. – Глядишь, по пути что и разговорим.
– Некогда мне, – ответила она, но воду из колодца поднимать не торопилась.
– А когда время будет? – не унимался Иван.
– А ты сватать приходи, тогда и поговорим, – хитро улыбнулась она и, подхватив ведра, пошла к дому.
Он стоял как вкопанный, провожая её взглядом. А на следующий вечер явился с отцом – просить её руки. Так и началась их история, которая привела к тому, что сейчас она сидит здесь, слушая, как её дети поют под гармонь.
– Мама, о чём задумалась? – голос Даши вывел её из воспоминаний.
– Да так, – улыбнулась она, – молодость вспомнила. Как ваш отец ко мне сватался…
Зинка, которая до этого момента слушала вполуха, вдруг заинтересовалась:
– И что, сразу согласился?
– Нет, – покачала головой мать, – сперва застеснялся, а потом уж решился. Да и я, признаться, его сразу приметила. Хороший он был, работящий.
Витя, услышав разговор, перестал играть:
– А правда, мам, расскажи поподробнее!
И мать, согретая воспоминаниями, начала рассказывать историю своей любви – ту самую, что когда-то привела её к счастью, к этой семье, к этим детям, что сейчас слушают её, затаив дыхание.
«А что ж, – думала я, – девка я справная, пора замуж выходить. Иван-то не пьёт, работящий, руки золотые. И видный он, хоть и нос великоват – так-то не беда. У нас в роду тоже носы знатные были. А главное – честный, в церковь ходит исправно».
Так и решила – быть свадьбе. А там уж Пашка родился, за ним Дашенька. Строить стали дом – не халупу какую, а справное жильё.
«Вот она, жисть-то, – размышляла она, глядя, как дети играют во дворе, – как наладится – так и течёт себе. Главное – чтоб лад в семье был, чтоб муж надёжный рядом. А остальное – оно приложится».
И правда – приложилось. Скотинка в хлеву, огород в порядке, дети сыты-здоровы. А как иначе? В деревне каждая девка знает – муж хороший, так и жизнь хорошая будет.
«И не прогадала я, – улыбалась про себя, – не зря тогда сватов приняла. Он-то, Иван-то мой, и в радости, и в горести со мной. Вот она, судьба-то, – нежданно-негаданно пришла, да и осталась с нами».
Так и жила, не жалуясь, не ропща – с верой в завтрашний день и с любовью к своему дому, к своей семье, к своему Ивану.
На крылечко вышел Иван, следом Пашка – красный, будто его крапивой стегнули. Встали оба, переминаются, на посиделки поглядывают.
Гармонь смолкла, и в наступившей тишине голос Ивана прозвучал негромко, с усмешкой:
– Ну, мать, готовься. Сейчас Пашка тебе новость выдаст.
Пашка аж весь сжался:
– Батя, ну что ж ты так… Давай уж ты сам скажешь.
Мать насторожилась, брови нахмурила:
– Вы это о чём? Что за загадки?
Пашка, не выдержав, шмыгнул носом и убежал в дом. Иван тяжко вздохнул, почесал затылок:
– Ну, мать… Крепись. Коровишку-то нашу… Они на гармонь обменяли.
У матери аж руки опустились. Она так и села на ступеньку:
– Как же так? Да как же вы… Без коровы-то как жить будем?
Иван стоял во дворе и хмуро поглядывал на сына. Витька, знай себе, наяривал на гармошке, будто ничего и не случилось. А в глазах – ни капли раскаяния.
– Эх, мать… Знает ведь паршивец, что натворил, а всё туда же – веселится.