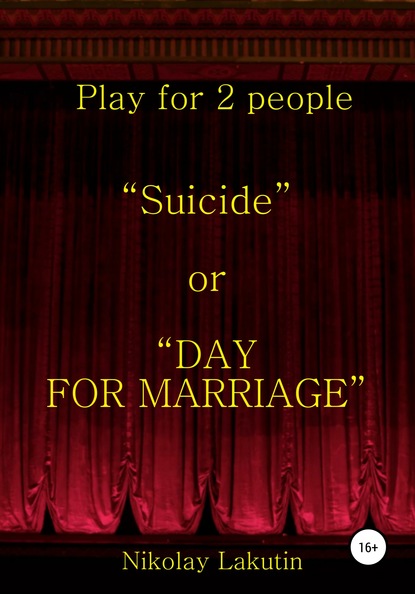Японский хоррор: Полное собрание

- -
- 100%
- +
Кэзуки вздрогнул, отпрянув от крабов. Это было не просто совпадение, не просто природное явление. Это было послание. Мрачное, жуткое послание, запечатлённое на панцирях тех существ, которые, возможно, были частью того же кошмара.
Мэдока, напротив, казалось, не испытывал такого же ужаса. Он подошёл к панцирю, его палец медленно провёл по линии, изображавшей лицо. В его глазах промелькнуло странное, потустороннее спокойствие.
«Они… они красивые, отец», – сказал он, его голос был почти равнодушным. – «Посмотри… они похожи на тех, кого мы видели».
Они привезли крабов домой. Родители Кэзуки, увидев такой обильный улов, сначала обрадовались, но, заметив странные рисунки на панцирях, их радость сменилась тревогой. Но Кэзуки, словно обезумев от безысходности, настоял на том, чтобы приготовить их. «Мы должны съесть их», – сказал он, его голос звучал твёрдо.
Когда крабы варились, дом наполнился запахом моря. Кэзуки и Мэдока ели их, стараясь не думать о том, что эти существа могли видеть, что они могли хранить в себе. Кэзуки чувствовал странное, липкое чувство насыщения, не похожее на обычную сытость. Мэдока же ел со спокойствием, его взгляд всё так же блуждал, словно он был где-то далеко, далеко. Остальных крабов они продали на рынке, и Кэзуки видел, как покупатели с интересом разглядывали их необычные панцири, не подозревая о том, какой ужас они несли в себе.
После той жуткой недели, когда на панцирях крабов отпечатались лики утопленников, а Мэдока всё больше погружался в свой собственный, изолированный мир, Кэзуки чувствовал, как напряжение в его душе становится невыносимым. Он наблюдал за сыном с нарастающим страхом. Мэдока стал тише, его движения – замедленнее, а взгляд – всё более отстранённым, словно он смотрел сквозь стены, сквозь реальность, в какой-то иной, неведомый мир. Было ли это последствие того, что они съели, или же это было прямое влияние той силы, что проявлялась в заливе? Кэзуки не знал, но чувствовал, что их с сыном связь, некогда крепкая, теперь превращалась в тонкую, рвущуюся нить.
На следующей неделе, погода, казалось, отражала внутреннее состояние Кэзуки – серое, безрадостное, предвещающее беду. Однако, в этот день не было черной воды, не было аномальных волн. Море было спокойным, почти безмятежным. Улов был средним, не давал поводов ни для радости, ни для отчаяния. Но в воздухе витало какое-то предчувствие, тонкое, как паутина, но цепкое, как страх.
На следующий день, когда солнце всё ещё стояло высоко, но его лучи уже были смягчены приближающимся вечером, их окутал туман. Густой, молочно-белый, он спустился с неба, словно завеса, внезапно скрывая от их глаз привычный мир. Лодка, ещё мгновение назад плывшая по открытой воде, оказалась в эпицентре непроглядной, белой мглы. Видимость упала до нескольких метров. Знакомый залив превратился в чужое, враждебное пространство, где реальность и иллюзия слились воедино.
Кэзуки инстинктивно замедлил ход. Он держал руль крепче, его взгляд напряжённо вглядывался в белую пелену, пытаясь уловить хоть какой-то ориентир, хоть какой-то знак. Мэдока, сидевший неподалёку, казалось, ничуть не встревожился. Наоборот, в его глазах появилось какое-то странное, пугающее спокойствие, словно он нашёл то, что искал.
И тут они услышали его. Шум приближающейся лодки. Этот звук, появившийсяя из ниоткуда, из самой толщи тумана, усиливал ощущение чего-то потустороннего, неведомого.
Кэзуки замер, его сердце забилось быстрее. Кто мог плыть в такую погоду, в таком тумане, по этому, казалось бы, опустевшему заливу?
И вот, из белого марева, выплыла лодка. Старая, деревянная, она казалась древней, покрытой водорослями и следами времени. На её борту стоял одинокий мужчина. Он был одет в простую, потрёпанную одежду, а его лицо, казалось бледным и измождённым.
Лодка приближалась к ним медленно, словно ведомая невидимой рукой. Когда она оказалась совсем близко, мужчина поднял руку, словно приветствуя, но в его жесте не было ни дружелюбия, ни враждебности – лишь какая-то странная, отрешённая покорность.
«Кто вы?» – окликнул его Кэзуки, его голос звучал глухо в плотной пелене тумана.
Мужчина, не ответив на вопрос, лишь медленно подплыл к их борту.
«Я заблудился», – произнёс он, его голос был тихим, но каким-то образом проникал прямо в душу. – «В этом тумане… я не понимаю, куда мне плыть».
Кэзуки, всегда готовый помочь заблудшему мореходу, несмотря на охвативший его страх, протянул руку. «Подойди. Поможем тебе».
Мужчина, представившийся Минору, без колебаний, словно ожидая этого, взобрался на их лодку. Он огляделся, его взгляд остановился на Мэдоке, сидевшем неподалёку, а затем на старом крабе, которого Мэдока, как ни странно, всё ещё держал в руках – одного из тех, с рисунком на панцире.
Когда Минору увидел панцирь, его лицо изменилось. Его губы, тонкие и бледные, растянулись в едва уловимой, жуткой ухмылке.
«К беде», – прошептал он, глядя на рисунок. – «Это к великой беде».
Затем, прежде чем Кэзуки или Мэдока успели что-либо понять, Минору спрыгнул с их лодки обратно в свою. Его лодка начала быстро ускользать в тумане, оставляя их одних в этой белой пустоте.
Кэзуки, потрясённый этим мимолётным, но ужасающим визитом, стоял на палубе, пытаясь осмыслить произошедшее. Слова Минору, его появление из ниоткуда, его исчезновение – всё это было слишком странно, слишком зловеще. Он чувствовал, как холодный пот выступает у него на лбу.
И тут он услышал шум. Сзади. Громкий, отчётливый шум, словно кто-то с силой вламывался в его личное пространство. Он резко обернулся.
И увидел его.
Древний самурай. В полном вооружении, с каплями крови, стекающими по лезвию копья, он шёл прямо на него, глаза его горели нечестивым огнём. В его движении была первобытная ярость, направленная на Кэзуки. Самурай поднял копьё, пытаясь пронзить его, словно врага, виновного во всех его несчастьях.
Кэзуки, охваченный первобытным ужасом, инстинктивно схватил нож, который он всегда держал при себе, нож для разделки рыбы. Он был готов защищаться, бороться с этой угрозой. В короткой, яростной схватке, где реальность смешивалась с кошмаром, он смог отобрать копьё у нападавшего. И в порыве отчаяния, повинуясь инстинкту самосохранения, Кэзуки вонзил свой нож прямо в горло самураю.
В тот же миг туман вокруг лодки рассеялся. Белая пелена исчезла, открывая перед ними знакомый, хоть и мрачный, пейзаж залива. Но то, что увидел Кэзуки, повергло его в абсолютный, леденящий душу ужас.
Он обернулся, чтобы посмотреть на того, кого он только что убил. Но это был не самурай.
Это был его сын, Мэдока.
Мир для Кэзуки перевернулся. Его разум, уже изрядно истерзанный увиденным в заливе, не выдержал этого финального удара. Он смотрел на Мэдоку, на безжизненное тело, в котором он только что погасил жизнь, и его собственная жизнь, его душа, словно вырвалась наружу, оставив лишь пустую оболочку. Слова «Почему?» застыли на его губах, но не могли вырваться наружу.
Окровавленный нож выпал из дрожащих пальцев. Кэзуки упал на колени, его тело начало сотрясаться от беззвучных рыданий. Он обхватил голову руками, пытаясь оттолкнуть от себя ужасающую картину. Это был сон. Просто кошмарный сон, вызванный усталостью, страхом и этими странными событиями. Но реальность была неумолима. Мэдока лежал перед ним, мёртвый.
«Мэдока… сын мой…» – прохрипел он, его голос был искажён от горя. Он попытался дотянуться до сына, но остановился. Что, если это была иллюзия? Что, если Мэдока был жив, а он, Кэзуки, просто сошёл с ума? Но кровавая рана на шее сына, его неподвижность – всё это было слишком реальным.
Кэзуки почувствовал, как силы оставляют его. Безумие, смешанное с горем, затопило его сознание, как чёрная вода залива. Он больше не мог оставаться на этой лодке. Он больше не мог смотреть на тело своего сына.
В приступе отчаяния, который был сильнее страха, сильнее боли, сильнее всего, что он когда-либо испытывал, Кэзуки поднялся. Его взгляд упал на воду, на тёмную, манящую гладь.
Он сделал шаг к борту. Его ноги казались ватными, тело – непослушным. Он не думал о том, что будет дальше. Было лишь одно желание – уйти. Уйти туда, откуда, возможно, не было возврата. Туда, где, как он чувствовал, покоились ответы, или, по крайней мере, забвение.
Он спрыгнул в воду.
В тот же миг, как только его тело коснулось холодной, влажной поверхности, мир вокруг него изменился. Вода, казалось, раскрыла свои объятия, и из её глубины поднялись они. Те самые лица, которые видел Мэдока, те самые сотни безмолвных, застывших в ужасе лиц. Они тянули его вниз, в бездну, в темноту, где, казалось, и покоились ответы на все его вопросы.
Кэзуки не сопротивлялся. Он позволил им увлечь себя, погрузить в холодные объятия залива.
Когда туман рассеялся окончательно, лодка «Сэцуна», медленно дрейфовала в заливе Данноура. Залив, казалось, вновь вернул себе своё спокойствие, храня свои мрачные тайны в безмолвной воде.
Знойная Колыбель Миираку
Лето в Миираку, словно вязкая, медовая патока, разливалось по деревне, пропитывая каждый листок, каждый стебелек, каждый уголок души. Солнце, безжалостное, в зените своего царства, обрушивало на выжженную землю потоки раскаленного воздуха, заставляя даже тени казаться густыми и неподвижными. Месяц, венчающий середину июля, был самым знойным, самым тягучим. Для подростков, чьи тела ещё только постигали перепады роста и страстей, это время казалось вечностью, растянутой в бесконечный, раскаленный миг.
Кохаку, четырнадцатилетняя, словно вышедшая из самого сердца лета, шла впереди. Её черные, словно крылья ворона, волосы, собранные в небрежный пучок, слегка растрепались на едва уловимом ветерке, который лишь усиливал ощущение жара, а не приносил прохладу. Легкое хлопковое платье, цвета утренней зари, облегало её тонкую, ещё детскую, но уже манящую фигуру. В её движениях была какая-то природная грация, присущая цветам, которые распускаются ещё до того, как осознают свою красоту. Она была воплощением той юной, невинной прелести, которая, словно невидимый магнит, притягивала взгляды.
Рядом с ней, шагая в такт её неспешным шагам, как её собственная тень, шёл Иори. Ровесник Кохаку, он был её одноклассником, но в жизни их, как казалось, связывало нечто большее, чем школьные парты. По крайней мере, для него. Его тело, еще не обретя юношеской угловатости, было худощавым, а взгляд – всегда немного робким, устремленным куда-то в сторону, чаще всего – на Кохаку. Он был добрым, застенчивым, и носил в своем сердце тайную, невысказанную любовь, которая расцветала с каждым новым днем, наполняя его тихим, но мучительным томлением.
Чуть позади, словно яркий фейерверк, разрывавший монотонность дня, двигался Акио. Пятнадцатилетний, смелый, с копной непослушных, выгоревших на солнце волос, он был прирождённым лидером, центром притяжения. Его наглость была лишь маской, прикрывавшей душу поэта, чьи стихи, подобно пыльце, разлетались вокруг, зачаровывая и пленяя. Он чувствовал в себе ту же тягу к Кохаку, но его подход был иным – открытым, дерзким, полным вызова.
«…и вот, когда сакура склонит свои ветви, Упадут лепестки, словно слёзы ночи…» – декламировал Акио, сопровождая свои слова широкими, артистичными жестами, направленными, разумеется, на Кохаку. Его голос, звонкий и немного надменный, казалось, наполнял собой все пространство вокруг.
Кохаку рассмеялась. Её смех, чистый и беззаботный, как перезвон колокольчиков на ветру, эхом отразился от выжженной земли, от самого зноя. Для Иори этот звук был одновременно музыкой и пыткой. Каждый раз, когда она смеялась над словами Акио, его сердце сжималось в безмолвной агонии. Он знал, что Акио дразнит его, выводя из равновесия, но именно реакция Кохаку, её открытое, искреннее веселье, было для Иори самым острым уколом. Он лишь позволял себе легкую, едва заметную усмешку, пытаясь скрыть бурю эмоций, которая бушевала внутри – смесь зависти, обиды и жгучего желания быть на месте Акио.
«Ты сегодня особенно красноречив, Акио», – сказала Кохаку, её улыбка была обращена к нему, и в этот момент Иори почувствовал себя невидимым. – «Словно готовишься к самому главному событию лета».
«А как иначе?» – Акио приложил руку к груди, его ухмылка стала шире, более победной. Он бросил быстрый, оценивающий взгляд на Иори, словно проверяя его реакцию, а затем вновь обратил всё свое внимание на Кохаку. – «Ведь скоро Танабата! Неужели ты не чувствуешь, Кохаку? Воздух сам наполнен обещаниями. Ты пойдёшь со мной? Это будет волшебное зрелище!».
Вопрос, столь открытый и прямолинейный, повис в горячем воздухе. Иори почувствовал, как его лицо вспыхнуло. Кровь прилила к щекам, но не от смущения, а от ярости и отчаяния. Он знал, что Акио почти наверняка получит её согласие. Он хотел пригласить её сам, но слова застряли в горле. Его робость, его нерешительность, его страх быть отвергнутым – всё это было сильнее.
«Да, Акио», – ответила Кохаку, её голос был мягким, почти шелковым. Она вновь обернулась, и на мгновение её взгляд, казалось, задержался на лице Иори, но тут же вернулся к Акио. – «Звучит прекрасно. Я пойду с тобой».
Улыбка Акио стала триумфальной. Он кивнул, словно получив самую важную победу в своей жизни. Иори же почувствовал, как мир рушится. Его сердце, застывшее от боли, сдавило так, словно его сжали в ледяной кулак. Он хотел кричать, но не мог. Его обычная усмешка, которую он использовал как щит, теперь казалась горькой, как пыль, осевшая на его губах, как яд, пропитавший его нутро.
По пути они проходили мимо обширного поля, где стояли старые, покосившиеся пугала, словно забытые стражи заходящего солнца. Одно из них, прикрытое выцветшей, рваной тканью, стояло чуть поодаль, на краю поля, словно само по себе. И когда ветер, казалось, вдруг усилился, заставив поклониться выжженные колосья, Иори заметил, как что-то мелькнуло у самого пугала. Это было очень быстро, почти незаметно – как будто клочок ткани, оторвавшийся от ветхого наряда, вдруг ожил и взмыл в воздух. Он моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд, но там было лишь старое, безжизненное пугало, покачивающееся на ветру, и поля, залитые золотистым светом. «Наверное, просто показалось», – подумал он, списывая это на усталость и жар. Но легкое, необъяснимое беспокойство, предчувствие чего-то неладного, всё же осталось.
Повинуясь новому, неистовому порыву обиды и ярости, он решил идти другой, более короткой дорогой, вдоль края поля, чтобы хоть как-то держать их в поле зрения. И когда он шел, его взгляд снова упал на то место у пугала. Странное ощущение чего-то присутствующего не покидало его.
Шепот летнего ветра, который казался лишь обманчивым дыханием жары, вдруг усилился, заставляя покосившиеся пугала в поле тревожно скрипеть и раскачиваться. Иори, идущий вдоль кромки поля, остановился. Он не мог отвести глаз от того места, где мгновение назад мелькнуло что-то.
Он хотел окликнуть Акио и Кохаку, которые уже скрылись за поворотом дороги, но не хотел быть навязчивым. Они шли вперёд, увлеченные своим миром, своим смехом, своими обещаниями. Его попытка привлечь их внимание в тот момент, когда он видел то странное движение, осталась бы проигнорированной. Сейчас, когда их силуэты были уже далеки, его внезапное беспокойство могло показаться лишь его обычным, ничем не обоснованным страхом.
Чем ближе он подходил к тому месту, где видел движение, тем сильнее становилось это странное ощущение. Воздух здесь казался плотнее, более насыщенным, словно в нём висела какая-то невидимая, вязкая субстанция. Он остановился, напряженно вглядываясь вдаль. И увидел его снова.
Это было не пугало. Ни в коем случае. Там, среди притихших силуэтов, стояло что-то другое. Белое. Тонкое. Оно двигалось. Но не как предмет, брошенный на ветер. Оно двигалось с какой-то противоестественной грацией, словно вытягиваясь, извиваясь, пульсируя. С этого расстояния оно отдалённо напоминало человеческую фигуру, окутанную белой тканью, но эта «ткань» была живой, она колыхалась сама по себе, независимо от ветра, словно дыхание чего-то незримого.
Иори замер. Ужас, холодный и острый, как лезвие, пронзил его. Страх сковал горло, не давая крикнуть, позвать на помощь, предупредить. Его ноги словно приросли к земле. Он чувствовал, как его зрение фокусируется на этой белой, движущейся сущности, словно она притягивала его взглядом, как магнит. Это было нечто гипнотизирующее. Он не мог оторвать глаз, не мог пошевельнуться. Казалось, само его существо подчинялось некой невидимой воле, которая исходила от этого жуткого, белого явления.
Он чувствовал, как его тело, словно послушная марионетка, медленно, но неуклонно, начало двигаться вперёд. Не по его воле, а по воле того, что стояло в центре поля. Каждый шаг был трудным, словно он пробирался через густую воду, но ноги сами несли его. Он больше не думал о Кохаку, об Акио, о своей обиде. Только о ней, этой белой, извивающейся загадке.
Тем временем, Акио и Кохаку, продолжали свой путь, их шаги теперь были чуть более неспешными. Смех Акио стал чуть тише, более проникновенным. Кохаку, сбросив с себя тяжесть смущения от приглашения, наслаждалась его обществом, его словами, которые сейчас звучали особенно романтично.
Но вдруг Кохаку остановилась. Её глаза, полные летней беззаботности, на секунду потеряли блеск. Она обернулась.
«Иори?» – позвала она, её голос был тихим, но в нём звучало легкое беспокойство. – «Иори, ты где?»
Акио тоже обернулся. Его взгляд скользнул по дороге, затем по полю. «Он же не мог просто уйти, он плёлся за нами», – произнес он, его прежняя бравада куда-то испарилась, уступив место беспокойству. – «Он же не мог отстать так сильно».
Они вернулись. Медленно, шаг за шагом, они шли по той же дороге, по которой только что шли втроём. Их голоса, теперь полные тревоги, звали: «Иори! Иори!»
Не найдя Иори на доороге, они погрузились в поле и увидели его. Иори лежал на земле. Он лежал боком, как будто упал, но не двигался.
«Иори!» – Кохаку бросилась вперёд, не дожидаясь Акио. Сердце её забилось дико, предчувствуя что-то страшное. Когда она добралась до него, её сердце ухнуло вниз, словно его сбросили в глубокую пропасть. Он не двигался. Совсем. Не было ни моргания, ни дыхания. Его тело было совершенно неподвижным, словно высеченным из камня, но при этом не излучало холод трупа. Его глаза были открыты, устремлены куда-то вдаль, казалось, что в них не было жизни. Его лицо было спокойным, почти безмятежным, но кожа была бледной, неестественно гладкой, лишенной каких-либо признаков жизни.
Акио подбежал к Иори. «Он… он не дышит!» – в его голосе звучал неподдельный ужас.
«Нет, подожди!» – Кохаку, дрожа, приложила пальцы к его шее. – «Пульс… он есть! Слабый, но есть!»
Они попытались его поднять. Это оказалось невозможно. Его тело было твердым, словно высеченным из монолита. Оно не сгибалось ни в одном суставе. Любая попытка повернуть его, пошевелить его рукой, встречала непреодолимое сопротивление. Казалось, его мышцы, кости, даже кожа, затвердели, словно были залиты бетоном изнутри.
«Что за чертовщина…» – пробормотал Акио, отступая на шаг, его взгляд был прикован к Иори, к этому застывшему, но живому человеку.
Кохаку, в панике, достала свой телефон. Её руки дрожали так сильно, что она едва могла набрать номер. «Мама Иори… с Иори что-то случилось…»
Весть о том, что случилось с Иори, разнеслась по Миираку быстрее, чем летний пожар. В маленькой, замкнутой деревне, где каждый знал друг друга, такое событие стало центром всеобщего внимания и обсуждения. Скорая помощь, а затем и врачи из городской больницы, прибывшие через нессколько часов, так и не смогли пролить свет на происходящее. Их вердикты были полны растерянности и неуверенности: «жизненные показатели в норме, но пациент абсолютно обездвижен», «нейрологические тесты не выявили патологий, но тело словно окаменело», «симптомы неизвестны».
Кохаку, бледная, с испуганными глазами, сидела у кровати Иори. Его тело, словно высеченное из мрамора, оставалось твёрдым, не поддающимся ни малейшему движению. Его кожа, хотя и сохраняла тепло живого существа, была удивительно гладкой, лишенной пор, морщин, любых признаков возраста или воздействия внешних факторов. Иори лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок, но в них не было ни мысли, ни чувства, ни проблеска узнавания. Он был здесь, его тело, но его сознания, словно не было.
Врачи, проведя все возможные тесты – от анализа крови до сканирования мозга, – пришли к выводу, что не могут установить причину или дать прогноз. Для них Иори был загадкой, живым экспонатом, который они не могли ни понять, ни вылечить. Его родители, чьи глаза горели безграничной тревогой и любовью, не отходили от сына. Они безуспешно пытались кормить его, переворачивали, чтобы избежать пролежней, общались с ним, хотя он и не мог ответить. Их дом, прежде наполненный тихим спокойствием, теперь был пропитан атмосферой безмолвной скорби и безнадежности.
Инцидент оставил глубокий след и на Кохаку, и на Акио. Смех Акио умолк, его наглость сменилась задумчивой серьезностью. Он часто приходил в дом Иори, просто чтобы посидеть рядом, молча, смотря на застывшего друга. Он больше не шутил над ним, не пытался привлечь внимание Кохаку. Он чувствовал вину за то, что хотел увести Кохаку, хотя прекрасно знал о влюблённости к ней Иори, или потому что не смог защитить его, или же просто сам был потрясен встречей с чем-то, выходящим за рамки его понимания.
Кохаку же, казалось, погрузилась в себя. Её открытый смех утих, сменившись тихой меланхолией. Она часто возвращалась в тот день, в то поле. Она вспоминала, как Иори смотрел на что-то перед тем, как уйти от них, и как его взгляд был полон не только обиды, но и чего-то ещё – страха, отчаяния, и, возможно, невысказанного прощания. Она чувствовала свою вину – за то, что смеялась над ним, за то, что не услышала его предупреждение, за то, что оставила его одного.
Эти события, словно невидимая нить, связали их троих – Кохаку, Акио и Иори – но связь эта была не из радости, а из общей травмы. Акио, уехал из Миираку, пытаясь забыть, или же, наоборот, его поэтическая душа нашла в этом событии тему для мрачных, пронзительных стихов, которые он печатал. Кохаку так же покинула деревню.
Прошли годы. Миираку продолжал жить своей размеренной, сельской жизнью. Пугала в полях, выцветая под солнцем, продолжали стоять на своих местах, словно молчаливые свидетели неведомой тайны.
Тридцать лет промелькнули, как один знойный день. Кохаку, теперь уже взрослая женщина, переехала в шумный, пульсирующий жизнью Токио. Она нашла свою судьбу, вышла замуж за Кайоши, человека, который был полной противоположностью её подростковым возлюбленным – спокойный, рассудительный, с острым умом и добрым сердцем. Они создали свой мир, свою тихую гавань. Но прошлое, оно словно корни старого дерева, уходило глубоко, напоминая о себе в самых неожиданных моментах.
Однажды вечером, когда за окном лил летний дождь, смывая пыль с улиц Токио, Кохаку, сидя напротив Кайоши, почувствовала, как что-то внутри неё надломилось. Воспоминания, долгое время дремавшие, пробудились, подстёгнутые, возможно, его присутствием, его доверием, или же просто неумолимым течением времени. Она начала говорить. Сначала робко, затем всё более уверенно, рассказывая о жарком лете, о странной драке, и, наконец, о том, как они нашли Иори. Её голос, когда она описывала его неподвижное тело, его пустые глаза, его каменную неподвижность, дрожал.
Кайоши слушал, не перебивая, его взгляд был полон не просто любопытства, а глубокого, профессионального интереса. Он был врачом, неврологом, и история о живом застывшем человеке, казалась ему чем-то невероятным, но в то же время – вызовом.
«Иори…» – его голос был тихим, но проникновенным. – «Он так и остался… в таком состоянии?»
«Я не знаю, я давно уехала из Миираку, но надеюсь, что с ним всё хорошо.»
В глазах Кайоши загорелся огонек. Это был не просто научный интерес. Это было желание понять, разгадать тайну, которая, казалось, так глубоко ранила его жену. Он увидел в её рассказе не просто детскую травму, а ключ к чему-то большему, к феномену, который бросал вызов всему, что он знал.
«Знаешь, Кохаку», – сказал он, осторожно беря её руку в свою. Его прикосновение было тёплым, успокаивающим. – «Быть может, пришло время вернуться. Туда, где всё это началось. Я хотел бы увидеть Иори. Увидеть Миираку. Возможно, я смогу понять, что произошло».