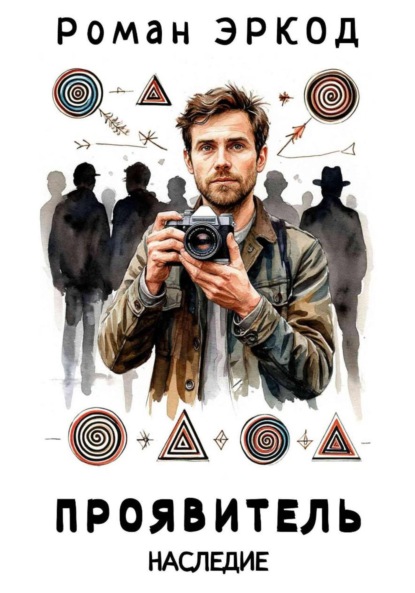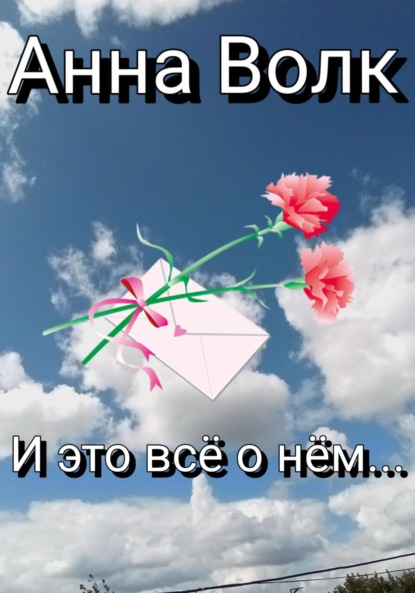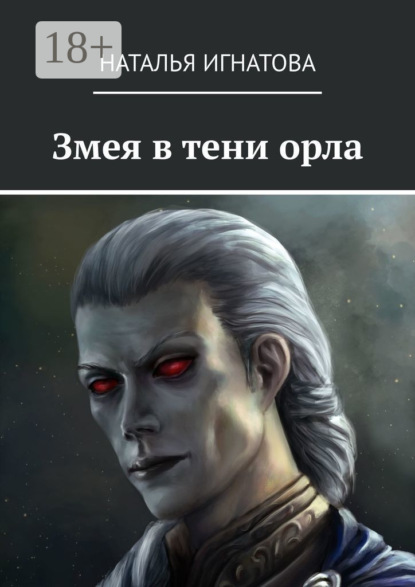- -
- 100%
- +
‒ Вы думаете, это серийный преступник? Сатанист? Ритуальный маньяк?
‒ Слишком стерильно для сатанистов, ‒ покачал головой Максим. ‒ У них обычно больше… бардака. Театральности, бутафории, дешевых спецэффектов. А здесь… ‒ он обвел рукой комнату, ‒ …все подчинено какой-то своей, строгой, железной логике. Математике. Геометрии. Это что-то другое. Более старое. Или более новое.
Он снова поднял «Зенит», уже почти не замечая его веса, и сделал еще один кадр ‒ на этот раз не тела, а портрет Коротковой на фоне этой жуткой, сюрреалистической картины. Ее сосредоточенное, бледное, но твердое лицо, ее умные, внимательные глаза, в которых, как ему показалось, отражалась та же неразрешимая загадка, что не давала покоя и ему самому.
‒ Мне нужны будут все эти символы, ‒ сказал он, обращаясь уже непосредственно к ней, чувствуя необъяснимое доверие. ‒ Копии, зарисовки, максимально детальные. И полная, развернутая информация о жертве. Кто он был. Чем занимался. С кем общался. Что любил. Что ненавидел. Все.
‒ Досье уже собирают, ‒ кивнула Анна, делая быструю пометку в планшете. ‒ Алексей Сорокин. Студент консерватории. Скрипач. Подающий надежды, по словам педагогов. Ни судимостей, ни видимых связей с криминалом. Вроде как, идеальный, чистый ребенок из хорошей семьи.
‒ Идеальных не бывает, ‒ мрачно, как приговор, констатировал Семёнов, бросая окурок в пустую банку из-под кофе, которую кто-то подал ему. ‒ Особенно мертвых. Копайте глубже.
Максим отвернулся и снова посмотрел в черный, магический окуляр «Зенита», наводя резкость на один из самых сложных и загадочных символов у изголовья тела. Это была спираль, плавно, без излома переходящая в равносторонний треугольник, внутри которого была вырезана короткая, стилизованная, устремленная вверх стрела. Через окуляр камеры весь мир сузился до этого одного, странного изображения. И в этой суженной, сконцентрированной реальности его на секунду, как удар током, пронзило странное, иррациональное, почти мистическое ощущение. Не страх. Не отвращение. А нечто иное, более глубокое. Почти… смутное, тревожное узнавание. Дежавю. Словно где-то в самых потаенных, пыльных уголках его памяти, в наследственной памяти, этот символ уже жил, дремал и ждал своего часа, своего проявления.
Он спустил затвор. Щелчок прозвучал особенно громко, оглушительно в давящей тишине комнаты.
‒ Я закончил здесь, ‒ тихо, но твердо сказал он, опуская камеру и чувствуя внезапную, смертельную усталость. ‒ Мне нужно в лабораторию. Срочно. Проявить пленку.
Его голос был ровным, профессиональным, но внутри, в глубине души, все кричало от ужаса и предчувствия. Профессионал победил, но цена этой победы, он чувствовал, будет ужасна и известна ему одному. Дверь в его персональный ад, в его кошмар, была снова распахнута настежь. И на этот раз, глядя на эти таинственные, зовущие символы, он с ледяным ужасом в сердце понимал, что этот ад был куда больше, сложнее и страшнее, чем он мог когда-либо предположить.
ГЛАВА 3. Лишний кадр
Возвращение в лабораторию было похоже на бегство раненого, затравленного зверя в свою последнюю, единственную берлогу. Максим ввалился в прихожую, с силой захлопнул дверь и повернул ключ дважды, до характерного щелчка, наглухо отсекая себя от враждебного, давящего внешнего мира. Он прислонился спиной к прохладной, твердой деревянной поверхности, стараясь унять предательскую дрожь в ногах и выровнять сбившееся, прерывистое, хриплое дыхание. В ушах стоял навязчивый, высокочастотный гул, а перед глазами, как на кинопленке, до сих пор стояли, сменяя друг друга, те самые жуткие кадры: неестественно вывернутые, скрюченные конечности, застывшая, восковая маска первобытного ужаса на лице молодого человека, сложные, будто бы живые, пульсирующие символы, вырезанные в грязном линолеуме…
Он зажмурился, из последних сил пытаясь стереть, выжечь эти образы из памяти, но они въелись в сетчатку, в подкорку, стали частью его самого, его личной мифологии. Запах смерти ‒ сладковатый, тяжелый, приторный ‒ казалось, пропитал его одежду, его волосы, его кожу, преследуя даже здесь, в его святая святых, в его последнем убежище.
С трудом оттолкнувшись от двери, он, почти не видя дороги, прошел вглубь квартиры, в свою лабораторию. Здесь пахло по-другому ‒ едкой, знакомой химией, кислотой, металлом и временем. Обычно этот запах успокаивал его, настраивал на рабочий, творческий лад, был его личным наркотиком. Сегодня он казался зловещим, предгрозовым, пахнущим серой и порчей. Воздух в комнате был напряженным, густым, будто сама комната, все эти склянки и приборы, затаившись, ждали, что же проявится на пленке на этот раз.
Он поставил кейс с «Зенитом» на большой, массивный стол, заставленный кюветами, мензурками, склянками и другими фотографическими принадлежностями. Руки все еще дрожали, но теперь это была не тревожная дрожь невротика, а лихорадочное, нетерпеливое биение сердца охотника, стоящего на пороге логова неведомого, страшного зверя. Он дрожащей рукой зажег красную лампу ‒ единственный источник света в комнате, ‒ и багровый, инфернальный, кровавый свет поглотил его, окрасив все вокруг, все предметы, в цвета постапокалиптического, сюрреалистического пейзажа.
«Факты, Максим, только факты», ‒ прошипел он сам себе, горько пародируя низкий, металлический голос деда. Но на этот раз голос в голове звучал не насмешливо, не укоризненно, а с леденящей душу, пророческой серьезностью.
Сначала ‒ ритуал очищения. Он тщательно, до скрипа, вымыл руки с мылом, вытер их насухо стерильной тряпкой, протер стол специальным спиртовым раствором, разложил инструменты с ювелирной точностью: щипцы, термометр, три идеально чистые кюветы для проявителя, стоп-ванны и фиксажа. Все эти действия были выверенными, отточенными до автоматизма, до мышечной памяти. Это был его танец, его медитация, его литургия. Механика процесса, его неумолимая логика, должна была успокоить бушующую внутри, сметающую все на своем пути бурю эмоций, вернуть ему утраченный контроль над реальностью.
Он открыл кейс. «Зенит» лежал внутри, черный, безмолвный и тяжелый. На мгновение ему показалось, что широкий стеклянный объектив смотрит на него, как живой, всевидящий, не моргающий глаз, хранящий в своей глубинной памяти нечто ужасное, не подлежащее огласке. Он взял камеру, ощутив ее знакомую, утяжеляющую руку, почти одушевленную тяжесть. Пальцы сами, помимо его воли, нашли привычные, родные рычажки и кнопки. Он потянул за головку обратной перемотки, услышал легкий, щелкающий звук, и задняя крышка отскочила, открывая темное нутро.
Внутри, как в гробнице, лежала кассета с пленкой. Та самая пленка, которая видела то, что видел он. Но видела ли она только это? Нет, он чувствовал ‒ она видела больше. Глубже. Она видела то, чего он видеть не мог, не смел, боялся.
Он потянул за кончик пленки, извлек ее из кассеты и, потушив красную лампу, погрузившись в полную, давящую, абсолютную темноту, на ощупь, дрожащими, но точными пальцами аккуратно, виток к витку, намотал на спираль светонепроницаемого бачка. Его пальцы, эти предатели, сейчас работали уверенно и нежно, как руки опытного хирурга, проводящего сложнейшую, рискованную операцию. Закрыв бачок, он снова, с облегчением, включил свет. Первый, самый важный и трепетный этап был пройден. Пленка была в безопасности, надежно защищена от губительного света, ее тайна была сохранена.
Он приготовил растворы, тщательно, до долей градуса замерил температуру ‒ все должно было быть идеально, стерильно. Любая ошибка, малейшее отклонение могли исказить, испортить послание, сделать его нечитаемым. А он не мог допустить искажений. Он должен был увидеть голую, неприкрытую правду. Ту, что была на полу в той проклятой хрущевке. Ту, что он снимал. И, возможно, ту, что была намеренно скрыта от его глаз, от его сознания.
Залив раствор в бачок, он начал медленно, равномерно, почти ритмично вращать его, отсчитывая секунды в уме, как отбивает такт метроном. Вращение было монотонным, гипнотизирующим, уводящим в транс. В багровом, адском свете он видел лишь свое бледное, изможденное, искаженное гримасой напряжения отражение в темном, как бездна, стекле окна ‒ лицо незнакомца с огромными, полными немого, животного ужаса глазами.
Пока пленка проявлялась, его мозг, вопреки воле, начал проигрывать кадры, как заевшую, проклятую старую киноленту. Крупный план пустых, остекленевших, невидящих глаз Алексея Сорокина. Причудливые, невозможные, ломающие разум изгибы его конечностей, складывающиеся в тот нечитаемый, сакральный знак. Глубокие, почти каллиграфические, витиеватые борозды символов, заполненные запекшейся, почти черной, как смола, кровью. И лицо Анны Коротковой ‒ умное, собранное, красивое, но в самой глубине этих ясных серых глаз таилась та же чуждая, незнакомая ему, первобытная тревога, что грызла и его самого, точила изнутри.
Щелчок. Щелчок. Щелчок.
Звук затвора отдавался в его памяти, как навязчивое эхо в пустой, заброшенной, холодной пещере.
Время истекло. Он слил раствор, залил стоп-ванну, потом фиксаж. Каждое действие было выверено, лишено каких-либо посторонних эмоций, сведено к физике процесса. Он был теперь не человеком, не Максимом, а инструментом, бездушным продолжением самого процесса, машиной по проявке скрытых, потаенных образов. Наконец, настал момент истины, момент откровения. Он промыл пленку под струей прохладной, почти ледяной воды, смывая с нее остатки химикатов, и, с замиранием сердца, с комом в горле, извлек ее из бачка.
Он повесил ее сушиться над столом, закрепив специальными зажимами. Мокрая, блестящая, переливающаяся лента болталась, словно только что выловленная из потусторонней, мистической реки странная рыба, хранящая в своих серебряных чешуйках-кадрах темные тайны мертвых и живых. Он взял мощную, с большим увеличением лупу и, включив настольную лампу с зеленым, безопасным для пленки светом, начал жадно, с лихорадочным азартом изучать негативы, один за другим, миллиметр за миллиметром.
Кадр за кадром. Все было там, все было на своих местах, как он и помнил. Общий план комнаты, снятый с порога. Крупные, детальные планы самых замысловатых, гипнотических символов. Портрет Анны на фоне этой жуткой, сюрреалистической картины. Все, что он снимал, все, что запечатлела его память. Изображения были четкими, резкими, безупречно проработанными, технически совершенными. Ужас, который они несли, был знакомым, почти ожидаемым, привычным ужасом. Ужасом реального места, реальной, жестокой смерти, с которой он когда-то, казалось, покончил навсегда.
На душе стало чуть спокойнее, отпустило. Словно тяжелый камень свалился с сердца. Ничего сверхъестественного. Никакой мистики. Просто работа. Тяжелая, мрачная, отвратительная, но все же ‒ работа. Может, он все выдумал? Нафантазировал? Может, его нервы, его психика, измотанные годом затворничества и страха, просто сыграли с ним злую, изощренную шутку?
Он решил проявить несколько ключевых, самых важных кадров, чтобы изучать их уже на бумаге, в более привычном, осязаемом формате. Снова, почти с наслаждением, погрузился в знакомый, успокаивающий ритуал: выбор кадра на контактном принтере, экспонирование под резким светом увеличителя, проявление. Он работал быстро, четко, почти машинально. Его профессионализм, его многолетний, выстраданный опыт взяли верх над остатками паники, над шепотом страха в затылке.
Первый снимок ‒ общий план комнаты с телом в центре. Он медленно, как призрак, проявлялся в кювете, наполняясь деталями. Стены, замызганные, серые обои, окно с грязными, рваными шторами, силуэты оперативников на заднем плане, и в центре ‒ эта жуткая, застывшая, почти скульптурная композиция из плоти и костей. Все было так, как он помнил, один-в-один.
Второй снимок ‒ крупный план того самого, манившего его символа у изголовья, спирали, переходящей в треугольник. Он вышел идеально, безупречно, каждая линия, каждый изгиб, каждый штрих были видны с пугающей, почти неестественной, кристальной четкостью.
Третий, четвертый… Все было нормально. Правильно. Он уже начал мысленно, с горькой усмешкой корить себя за паранойю, за эту идиотскую, мальчишескую, необоснованную нервозность. «Выгорание, Макс, ‒ сказал он сам себе, сжимая влажные ладони. ‒ Просто выгорание и ПТСР. Призраков не бывает. Камеры-убийцы ‒ тоже. Соберись, тряпка».
Он погрузил в раствор следующий, чистый лист фотобумаги. Это должен был быть кадр с телом, снятый с другого, более близкого, почти интимного ракурса. Он пристально, не отрываясь, наблюдал, как на белой, девственной, гладкой поверхности начинают медленно, таинственно проступать очертания. Пол. Длинная, искаженная тень от тела. Извилистые, как змеи, темные борозды символов…
И тут его взгляд, годами натренированный выхватывать малейшие, незначительные детали, зацепился, впился во что-то лишнее. Что-то, чего там не должно было быть. Что-то, что одним махом перечеркивало все его успокоения, все самоубеждения.
В правом нижнем углу снимка, там, где на его ясной, четкой памяти был пустой, ничем не примечательный, грязный участок линолеума, проступал, набирая плотность, чей-то ботинок. Не обычный, стандартный ботинок оперативника, а его собственный. Тот самый, в котором он стоял сегодня, в который он был обут прямо сейчас.
Ледяная, обжигающая волна, казалось, вырвалась прямо из кюветы и прокатилась по его спине, сковывая мышцы, парализуя волю. Он не снимал этот ракурс так близко! Он точно, до миллиметра помнил каждый свой шаг в той комнате, каждый поднятый к глазам «Зенит», каждый вздох! Он не наступал за пределы круга! Он был профессионалом, черт возьми!
Он выхватил снимок щипцами, словно обжегшись о раскаленное железо, и бросил его в стоп-ванну, не дожидаясь полного, окончательного проявления. Его руки снова затряслись, уже по-настоящему, с такой неконтролируемой силой, что металлические щипцы выскользнули из пальцев и с оглушительным лязгом упали на кафельный пол. Сердце забилось с такой бешеной, дикой силой, что в ушах поднялся оглушительный, сметающий все мысли и рассудок шум. Нет. Нет, не может быть. Галлюцинация. Это галлюцинация, наваждение!
Он, почти не видя от накатившей паники, схватил следующий лист, который уже лежал в кювете и был почти готов, почти проявлен. И на этом снимке он увидел не тело жертвы, не символы, а… себя.
Это был он. Максим Орлов. Снятый с такого шокирующего ракурса, словно фотограф стоял прямо перед ним, в упор, в нескольких сантиметрах. Его собственное лицо, но искаженное до неузнаваемости, лишенное всего человеческого, всего знакомого. Выражение было пустым, остекленевшим, восковым, без единой искорки мысли, эмоции, осознания, памяти. Глаза смотрели в никуда, широко раскрытые, зрачки неестественно расширены, словно он был в состоянии глубокого наркотического транса, сомнамбулического сна или запредельного, абсолютного ужаса. А в его правой руке, сжатой в судорожном, напряженном кулаке, был нож. Длинный, с широким, тяжелым, брутальным лезвием, весь испачканный темной, почти черной на черно-белом снимке кровью. Кровь была и на его руке, запекшимися каплями, и алыми брызгами на светлом рукаве его же куртки.
Он стоял над телом Алексея Сорокина, попирая каблуком своего ботинка один из центральных ритуальных символов. И его поза, его застывшее, бездушное, нечеловеческое лицо палача, не оставляли никаких, даже малейших сомнений в том, что именно он, Максим, только что собственными руками совершил это жертвоприношение, этот ритуал.
Мир вокруг поплыл, закружился, потерял все очертания, все краски, кроме багрового света лампы. Максим отшатнулся от стола, опрокинув одну из кювет. Фиксаж, едкий, ядовитый и резко пахнущий, разлился по полу, запах ударил в нос, но он ничего не чувствовал, не видел, не слышал. Он смотрел на плывущее в мутной, отравленной жидкости изображение самого себя ‒ убийцы. Своего двойника. Своего темного, больного отражения. Снятого его же камерой. Его же, дрожащими руками.
‒ Нет, ‒ прохрипел он, и его голос прозвучал чужим, разбитым, незнакомым. ‒ Этого не может быть. ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Первой реакцией, прорвавшейся сквозь ледяной, парализующий ужас, была ярость. Чистая, животная, бессильная ярость, смявшая весь страх в тугой, горячий, болезненный ком в груди. Его надурили. Его подставили. Кто-то знал о его возвращении, кто-то проник сюда, в его святая святых, и подменил пленку! Или… или это больной, уродливый, жестокий розыгрыш. Месть Семёнова за его уход? Или кого-то еще из старых, обиженных коллег, кто считал его трусом, дезертиром?
Он, шатаясь, как пьяный, схватил «Зенит». Лихорадочно, бешено осмотрел его со всех сторон, впиваясь взглядом в каждую царапину. Камера была цела, на ней не было никаких следов взлома, вскрытия, вмешательства. Он снова, с силой вскрыл заднюю крышку. Пленка внутри была его, он помнил марку, помнил, как сам, утром, перед выходом, заряжал ее, отламывая усики. Он проверил механизм затвора, механизм перемотки ‒ все работало идеально, плавно, без малейших заеданий, как швейцарские часы. Никакой двойной экспозиции, никакого наложения кадров, никакого брака быть не могло, он был профессионалом, асом, и никогда, слышишь, НИКОГДА не допустил бы такой примитивной, позорной ошибки!
Он подбежал к негативам, висящим над столом, как повешенные на пытке преступники. При ярком, слепящем свете лампы он начал изучать их снова, с самого начала, кадр за кадром, с лупой в дрожащих, влажных от холодного пота руках, впиваясь в каждое изображение.
И нашел.
Тот самый «лишний» кадр. Он был прямо там, вклинен, как нож в ребро, между снимком символа-спирали и портретом Анны. Отрицательное изображение, где его собственная фигура была светлым, почти призрачным, но отчетливым силуэтом на темном, густом фоне проклятой комнаты. А в его руке ‒ тот самый, ужасающе реальный, отчетливо видимый нож.
Это не было наложением. Не было подделкой, фотомонтажом, фальшивкой. Это был отдельный, самостоятельный, идеально скомпонованный, живой кадр. Снятый в той же комнате. В тот же момент. Но… его не было в его памяти. Он не делал этого снимка. Он не мог его сделать. Он не стоял так. Он не держал в руках нож! Он не…
Ярость, державшая его на плаву, как спасательный круг, лопнула, как мыльный пузырь, и ее мгновенно сменил леденящий, всепоглощающий, тотальный, абсолютный ужас. Его ноги подкосились, и он рухнул на стул, уставившись пустым, невидящим взглядом на висящую, как гирлянда, пленку. Воздух перестал поступать в легкие, горло сжалось в тисках невидимой, железной руки. Перед глазами заплясали темные, рваные, мутные пятна, комната начала сужаться, превращаясь в длинный, черный, безвозвратный тоннель.
Паническая атака. Та самая, знакомая, от которой он бежал целый год, с которой боролся таблетками, терапевтами и затворничеством. Она накрыла его с новой, невиданной, сокрушительной силой, сметая все барьеры, все защиты. Волны жара и холода сменяли друг друга, его бросало в липкий, холодный пот, потом пробирала мелкая, неконтролируемая дрожь. Комната закружилась в вихре, поплыла. Он слышал собственное хриплое, прерывистое, собачье, частое дыхание, словно со стороны, из другого измерения. Его тело перестало ему подчиняться, стало чужим, тяжелым, непослушным, вязким.
Он обхватил голову руками, пытаясь выдавить из себя звук, крик, проклятие, мольбу, но смог издать лишь тихий, жалобный, детский, беспомощный стон. В висках стучало, выбивая один-единственный, навязчивый ритм, как молоток: «Убийца. Ты убийца. Ты стоял над ним с ножом. Ты это сделал. Ты».
Это был не сон. Не галлюцинация, вызванная стрессом и усталостью. Это была пленка. Фотография. Материальный, осязаемый объект. Факт. Голый, неприкрытый, бесстрастный факт.
«Факты, Максим, только факты», ‒ снова, в который уже раз, прозвучал в голове голос деда, и на этот раз он звучал не как наставление, а как окончательный, беспощадный, не подлежащий обжалованию приговор.
Он поднял тяжелую, как гиря, голову и посмотрел на «Зенит», лежащий на столе среди хаоса и разгрома. Багровый свет лампы делал его похожим на пульсирующий, древний, зловещий артефакт, пришедший из иного, враждебного мира. Дед. Его камера. Его странные, почти безумные, пугающие увлечения «невидимыми мирами», «астральными сущностями» и «фотографированием мысли». Что он ему на самом деле оставил в наследство? Проклятие? Одержимость? Ключ к двери, которую лучше было никогда не открывать?
Максим вскочил, с грохотом отшвырнул стул, который с треском упал на пол, и в приступе слепой, неконтролируемой ярости и бессилия схватил первую попавшуюся вещь ‒ тяжелую стеклянную банку с гидрохиноном ‒ и изо всех сил, с криком швырнул ее в стену. Стекло разбилось с оглушительным, хрустальным, звенящим звоном, едкая, ядовитая жидкость брызнула во все стороны, оставляя на стене и полу темные, едкие, ядовитые подтеки. Он тяжело, с присвистом дышал, стоя посреди разрушенного святилища, с сжатыми в белые, костлявые кулаки руками, с лицом, мокрым от слез ярости, страха и полнейшего, бездонного отчаяния.
Максим подошел к столу и дрожащей, не слушающейся, ватной рукой вынул тот самый, «лишний» снимок из стоп-ванны. Он был почти полностью проявлен теперь, во всей своей ужасающей красе. Его собственные глаза, пустые и безумные, смотрели на него с глянцевой, мокрой поверхности фотобумаги, проникая в самую душу. Он видел каждую пору на своей коже, каждую морщинку на одежде, каждую, самую мелкую каплю крови на лезвии ножа. Это был он. Сомнений не оставалось. Это не был двойник, не был монтаж, не был розыгрыш. Это был он. Его второе «я». Его тень.
И тогда, сквозь гул в ушах и спазмы в сведенном горле, в его сознании, как ослепительная вспышка магния, всплыла, обретая новый, зловещий смысл, фраза Семёнова, брошенная в машине по дороге на место преступления: «Держись, дружище. Видок там тот еще».
И новая, еще более чудовищная, парализующая мысль, как удар ножом в спину: а что, если Семёнов это уже знал? Что, если он видел это раньше? Что, если он вызвал его на место не для помощи в расследовании, а для чего-то другого? Для проверки? Для того, чтобы подставить? Или потому, что знал, что камера покажет именно это? Что он ‒ часть этого?
Он опустился на колени на липкий, залитый химикатами пол, среди острых, блестящих осколков стекла. Красный, адский свет лампы лизал стены, превращая комнату в подобие преисподней, в инфернальную лабораторию безумия. А он сидел в ее самом центре, с фотографией себя-убийцы в дрожащих руках, и тихо, безнадежно, беззвучно рыдал, наконец-то понимая, что хрупкие, иллюзорные границы реальности, которые он так тщательно, с таким трудом выстраивал после дела «Садовода», рухнули окончательно и бесповоротно. И он остался один на один с необъяснимым, немыслимым, тихим ужасом, запечатленным на пленке его собственной, проклятой, насланной на него камеры. И этот ужас, самое страшное, был его собственным, родным отражением.
ГЛАВА 4. Игра в одни ворота
Следующие два дня Максим провел в состоянии, граничащем с полным, клиническим помешательством. Он не спал, не ел, только пил литрами черный, горький, как полынь, кофе и время от времени ‒ крепкий, обжигающий горло алкоголь, пытаясь заглушить тряску в руках и ту единственную, навязчивую, вставшую перед глазами картинку, что выжигала ему мозг. Разбитая банка с химикатами и залитый фиксажем липкий пол так и остались нетронутыми в лаборатории ‒ он не мог заставить себя переступить порог этой комнаты, ставшей для него камерой пыток. «Зенит» лежал на кухонном столе, и каждый раз, проходя мимо, Максим чувствовал, как по спине бегут ледяные мурашки, а в животе шевелится холодный червь страха. Он был заражен. Проклят. Отмечен.
Он перебирал в голове, как четки, все возможные, самые безумные логические объяснения. Галлюцинации? Но негатив был материален, его можно было пощупать. Подмена пленки? Но он не выпускал камеру из рук ни на секунду, это было невозможно. Кто-то в лаборатории? Он жил один, давно и отчужденно. Оставался только один, самый безумный, самый невероятный вывод: камера деда видела то, чего не видел он. Видела возможное будущее. Или… его собственную, глубоко запрятанную темную сторону, его скрытое «я».
Он взял тот злополучный, жгущий пальцы снимок и спрятал его на самое дно старого, пыльного металлического ящика с инструментами, подальше от глаз, от света, от памяти. Сжечь его было бы логичнее, разумнее, но он не мог. Это был факт. Улика. Или единственное доказательство его начинающегося безумия. Он не мог уничтожить его, как не мог отрезать часть самого себя.
Именно в этот момент, когда он сидел, уставившись в пустую, белую стену, и снова, как заезженную пластинку, завел свою мантру ‒ «факты, только факты» ‒ раздался оглушительный, как набат, звонок. Семёнов.
Новое убийство.
Легкий, электрический шок сменился странным, болезненным, гнетущим облегчением. Если убийца снова нанес удар, значит, тот кадр с ним, Максимом, с ножом в руке ‒ все же не был правдой, не был пророчеством. Значит, он не сходил с ума. Во всяком случае, не настолько, чтобы стать убийцей. Пока что.