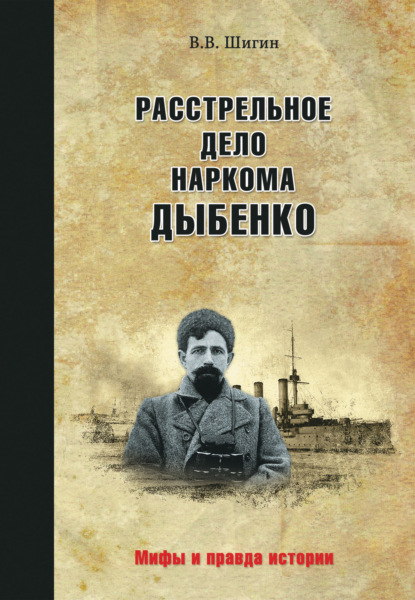«Эхо Падших Светил» Книга Первая: Пробуждение Тени (часть 2)
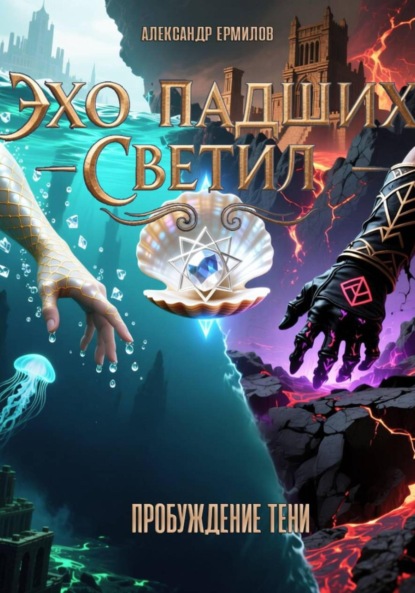
- -
- 100%
- +

Книга «Эхо Падших Светил»
Книга Первая: Пробуждение Тени (часть Вторая)
Глава Двадцать первая: Зов Погибшего Солнца
Пустыня, что всего несколько часов назад казалась негостеприимной, но безмолвной, теперь обрушилась на Кедрика всей своей оглушительной тишиной. Воздух, обычно наполненный шепотом передвигаемых ветром песков и стрекотом невидимых в темноте насекомых, замер, словно затаив дыхание перед казнью. Даже звезды, обычно такие яркие в пустынной выси, померкли, скрытые внезапно набежавшими с северо-запада рваными, черными тучами. Он сидел у потухшего костра, на который уже не хватало топлива – последние пучки сухого бурьяна и пустынного скребуна истлели час назад, оставив лишь горстку теплого пепла, – и вглядывался в зыбкое марево, поднимающееся от раскаленных за день камней. Рука, отмеченная черными узорами, ныла тупой, знакомой болью, но сегодня боль эта была иной – тревожной, настойчивой, словно натянутая струна, вибрирующая в такт невидимому приближающемуся шагу, готовая лопнуть под тяжестью невысказанного предчувствия.
«Они спят… эти жалкие… песчинки… не ведая… что их мир… уже сгорел…» – шипел в его сознании знакомый голос, но сегодня в нем слышалась странная, тревожная нота.
Харган спал неподалеку, свернувшись калачиком, его могучее тело поднималось и опускалось в неспокойном сне. Даже во сне его рука лежала на рукояти молота – привычка, выработанная за долгие годы службы в беспокойных горах. Старый воин ворочался и что-то бормотал сквозь сон – возможно, имена павших товарищей или проклятия в адрес пустыни, что медленно высасывала из него жизнь.
Ашраки несли дозор на гребнях окружающих скал, их темные, закутанные в плащи силуэты были неподвижны и неестественны против бледного, больного света ущербной Луны Этерии, словно каменные изваяния, воздвигнутые в честь забытых Богов пустыни. Зафира сидела чуть поодаль, скрестив ноги, и тихо напевала древнюю песнь ашраки о падающих звездах и уходящей воде – меланхоличный напев, который впитывался в песок, не находя отклика. Ее пальцы перебирали четки из песчаного скорпиона, и каждый щелчок костяшек отмерял секунды их безнадежного путешествия.
«Слушай… ее песнь… песнь… о конце… всего… они знают… что обречены…»
Кедрик попытался отогнать голос, сосредоточившись на окружающем мире. Ночная пустыня жила своей таинственной жизнью. Где-то вдалеке завыл ночной ворг, и этот звук был таким же одиноким и потерянным, как он сам. Скалы вокруг их лагеря отбрасывали длинные, искаженные тени, которые казались живыми и враждебными. Воздух пах пылью, сухими травами и чем-то еще – озоном, словно перед грозой, хотя дождь в этих местах был легендой, которую рассказывали у костров.
И вдруг струна внутри Кедрика лопнула.
Это было не похоже на привычный, ядовитый Шепот, к которому он уже начал привыкать, как к хронической болезни. Это был беззвучный, всесокрушающий вихрь чистой, невыразимой агонии, пронзивший его насквозь, от темени до пят, разорвав все внутренние барьеры и защиты. Он не услышал его ушами – он ощутил его каждой клеткой своего существа, как будто сама реальность вокруг него издала предсмертный стон.
Он вскрикнул, больше от неожиданности, чем от боли, и схватился за грудь, где внезапно, мгновенно разверзлась ледяная, бездонная пустота, чернее самой темной пустынной ночи. Перед глазами помутнело, песок и звезды поплыли, и он увидел…
…огромные, высеченные из горы ворота Орт-Карака, знакомые до каждой трещины, до каждого выбоина от вражеских таранов, рушащиеся под сокрушительными ударами черных, как сама ночь, големов, чьи тела были слеплены из скал и ненависти…
…лицо отца, Брайдона, залитое потом, кровью и копотью, но озаренное последней, страшной, величественной яростью, яростью обреченного титана, в последний раз поднимающего свой молот против надвигающегося потока Тьмы…
…«Громовержец», молот Предтеч, описывающий свою последнюю, отчаянную дугу в воздухе, наполненном криками умирающих и скрежетом камня…
…и всепоглощающую, окончательную Тьму, холодную, безразличную и абсолютную, накрывающую его отца, его дом, его мир, как морская пучина накрывает упавший в воду камень…
Видение исчезло так же внезапно, как и появилось, оставив после себя лишь леденящий ожог и оглушительную тишину. Кедрик лежал на спине на холодном теперь песке, широко раскрыв глаза, бессмысленно уставленные в небо, и задыхался, его грудь судорожно вздымалась, а сердце колотилось в грудной клетке с такой силой, словно пыталось вырваться наружу, убежать от ужаса, который оно только что восприняло. Пустота внутри него была теперь огромной, бездонной и черной, как сама Бездна Сайл'Нара. Он больше не чувствовал связи. Связь порвалась. Его отец был мертв.
– Сын вождя! Кедрик! – Харган был уже над ним, на коленях, его грубое, обветренное лицо, обычно такое невозмутимое, было искажено неподдельной, животной тревогой. Он тряс его за плечо. – Что с тобой? Опять голос? Проклятый Шепот?
Кедрик не мог говорить. Воздух не попадал в легкие. Он лишь бессмысленно качал головой, беззвучно шевеля губами, в которых стоял вкус крови – он прикусил щеку. Слезы, жгучие, соленые и совершенно бессильные, текли по его вискам, смешиваясь с пылью и песком, оставляя грязные борозды на его загорелой коже.
И тогда Шепот вернулся. Но на сей раз он был иным. Не ядовитым, не насмешливым, не искушающим. Он был… удовлетворенным. Поглаживающим. Полным ледяного, бездушного торжества, торжества палача, видящего, как на его глазах умирает последняя надежда приговоренного.
«…видишь?… видишь теперь?… я… предупреждал… сила… была… твоим… единственным… шансом… единственной… нитью… ты… мог… спасти… его… ты… выбрал… милосердие… гордость… честь… и… оно… погубило… его… твой… выбор… стал… его… смертным… приговором…»
– Нет… – прохрипел Кедрик, сжимая голову руками, с отчаянием дикого зверя пытаясь вышибить из нее этот голос, это знание, эту невыносимую правду. – Нет! Замолчи!
«…Орт-Карак… пал… твой отец… мертв… пал… как… песчинка… перед… бурей… твой народ… рассеян… по ветру… или… обращен… в рабство… или… в прах… всё… всё… из-за… твоего… выбора… твоего… слабоволия…»
Слова впивались в его растерзанное сознание, как отравленные, раскаленные иглы, впрыскивая яд вины и отчаяния. Он видел их правду. Он чувствовал ее в ледяной, мертвой пустоте, оставшейся после видения, в разорванной нити, что связывала его с отцом. Его отец был мертв. Его дом уничтожен. Его мир рухнул. И все потому, что он, Кедрик, в решающий миг не принял дар Лордора. Не стал достаточно сильным, достаточно жестоким, достаточно тьмой, чтобы противостоять Тьме.
Ярость поднялась в нем, черная, как его метка, и такая же жгучая, всепоглощающая. Ярость на Лордора, на его безликое зло. На отца за его гордость и честь, которые не позволили ему бежать, которые заставили его принять бой. На кланы за их слепоту и страх, изгнавшие его. На весь несправедливый, жестокий мир, что позволяет таким вещам происходить. Но больше всего – на самого себя. За свою слабость. За свой выбор. За то, что он жив, пока его отец лежит под обломками их дома.
– Что случилось? Что с ним? – Раздался спокойный, но твердый голос Тарика. Вождь ашраки стоял рядом, его темные, как сама пустынная ночь, глаза внимательно, как хищная птица, изучали Кедрика, его позу, его лицо, залитое слезами и искаженное гримасой боли. Зафира замолчала, ее песнь оборвалась на полуслове.
– Он… что-то почувствовал, – мрачно, сквозь стиснутые зубы, ответил Харган, не сводя своей тяжелой, мозолистой руки с плеча Кедрика, как будто боясь, что того унесет ветром. – Сильную боль. Не свою.
– Боль на расстоянии, – прошептал Кедрик, с трудом выпрямляясь и отталкивая руку Харгана. Его голос был хриплым, разорванным, полным неконтролируемой, кипящей ненависти ко всему сущему. – Он мертв. Мой отец. Орт-Карак пал. Его больше нет.
Харган замер, и его лицо, несмотря на глубокий загар, стало землисто-серым. Его могущие плечи сгорбились, словно под невидимой тяжестью.
– Нет… – прошептал он, и в его голосе прозвучало нечто большее, чем просто потрясение – это было крушение всего фундамента его мира. – Клянусь молотом и наковальней… не может быть… Несокрушимый Орт-Карак… Лорд Брайдон…
– Это правда! – Кедрик почти закричал, поднимая на них свой взгляд, и в его глазах, налитых болью и яростью, было нечто дикое, нечеловеческое, что заставило даже бесстрашного Харгана инстинктивно отшатнуться. – Я видел! Я чувствовал! Лордор… он сделал это. И он радуется. Он… он благодарит меня за это. Слышишь?! Он благодарит своего палача за помощь!
Он дико, истерически засмеялся, коротким, сухим, как треск ломающейся кости, звуком, и в этом смехе не было ничего, кроме абсолютного отчаяния, горечи и смертельного яда.
– Он говорит, что это я во всем виноват. Что мое милосердие, моя честь – это смертный грех, который погубил всех, кого я любил. И он… – Кедрик сглотнул ком в горле, – он прав.
«…прими… то… что… ты… когда-то… отверг… стань… сильным… наконец… отомсти… за него… ярость… гнев… они… очищают… они… дают… крылья… мне… нужна… твоя… ярость… а не… твое… жалкое… раскаяние…»
Шепот стал настойчивее, соблазнительнее, он тек по его жилам, как теплый, темный мед, приглушая остроту боли, предлагая взамен могучее, уверенное пламя гнева. Он больше не атаковал. Он предлагал. Протягивал руку помощи в бушующем море горя, единственную твердую опору в рушащемся мире.
Кедрик посмотрел на свою черную руку, сжатую в трясущийся кулак. Узоры на ней, казалось, пульсировали в такт Шепоту, стали темнее, почти багровыми, живыми. Он чувствовал исходящую от нее силу. Темную, губительную, отравленную, но, несомненно, могущественную. Ту самую, что могла бы спасти его отца, если бы он принял ее тогда. Ту, что могла бы остановить Лордора, разорвать его на части, отомстить. Силу, которая сейчас казалась единственным, что имеет смысл в этом уничтоженном мире.
– Сын вождя, не слушай его, – сурово, но с дрожью в голосе сказал Харган. Он снова попытался приблизиться, но Кедрик отпрянул, как от огня. – Это ложь. Горькая, сладкая ложь, чтобы сломать тебя, чтобы превратить в него. Это ловушка!
– А что есть правда? – огрызнулся Кедрик, и его голос зазвучал чуждо, горько, словно скрип ржавых петель. – То, что мой отец мертв? То, что мой дом – это пепел и кости? То, что я теперь никто и ничто, безродный изгой в выжженной пустыне? Это не ложь, Харган! Это единственная правда, что у меня осталась! Все остальное – честь, долг, надежда – это пыль!
Он встал, пошатываясь, как пьяный, и отвернулся от них, от их сочувствующих, испуганных лиц. Он смотрел в непроглядную тьму пустыни, но видел лишь падающие стены Орт-Карака, пляшущие в огне, и гордое, искаженное болью лицо отца в последний миг.
– Он предлагает мне силу. Силу отомстить. Сделать с Лордором и его приспешниками то, что они сделали с моим отцом. И что мне остается, скажи? Молиться бездушным звездам? Плакать в песок, как беспомощный ребенок? Или… – он сжал свою черную руку так, что костяшки побелели, и ему показалось, что он чувствует, как Тьма внутри него отвечает, с готовностью сжимаясь, наполняя мышцы свинцовой тяжестью и уверенностью, – принять это? Взять то, что мне предлагают, и обратить это против дарителя?
Шепот в его голове ликовал, это был беззвучный, торжествующий вихрь.
«…да… вот… так… наконец-то… гнев… ярость… они… сильнее… скорби… они… не парализуют… они… дают… силу… двигаться… вперед… уничтожать…»
Тарик, все это время молча наблюдавший, сделал шаг вперед. Его лицо в лунном свете было похоже на маску из старого, полированного дерева – непроницаемую и полную древней, безмолвной мудрости.
– Месть, – произнес он тихо, и его голос прозвучал как приговор, – это питье соленой воды из высохшего колодца. – Он посмотрел прямо на Кедрика, и его взгляд, казалось, пронзал тьму и ярость, достигая самой его израненной души. – Чем больше ты пьешь, тем сильнее твоя жажда. Она обжигает горло, разъедает внутренности, но не приносит жизни. Она не вернет твоего отца. Она не воскресит твой дом. Она не напоит тебя. Она лишь заставит тебя пить снова и снова, пока ты не умрешь от жажды с полным желудком яда. Она убьет в тебе того, ради кого ты хочешь мстить. Твоего отца в тебе самом.
– Тогда я умру! – взорвался Кедрик, оборачиваясь к нему, его лицо было искажено гримасой, в которой смешались боль и ненависть. – Но я возьму его с собой! Я сотру его с лица земли, я заставлю его почувствовать хоть тень той боли, которую он причинил мне!
Он сжал свою черную руку в кулак, и ему показалось, что он чувствует, как Тьма внутри него отвечает, с готовностью сжимаясь, обещая исполнение всех его самых мрачных фантазий. Шепот ликовал, он был теперь не голосом, а ощущением, темной уверенностью, заполняющей все уголки его сознания.
«…да… вот… так… гнев… ярость… они… сильнее… скорби… они… дают… силу… двигаться… вперед…»
Кедрик закрыл глаза, пытаясь ухватиться за эту ярость, как утопающий хватается за соломинку. Но сквозь багровую пелену гнева пробивался другой образ. Не лицо отца в последний миг ярости, а каким оно было раньше – суровым, но справедливым в своем каменном тронном зале. Полным тихой, несгибаемой гордости за него, за его любознательность, за его стойкость. Гордости за то, что он, его сын, не принял дар Тьмы, не предал свою сущность ради легкой силы. Он вспомнил его руку на своем плече в момент изгнания – не гневную, а тяжелую от неподъемной боли и веры.
И этот образ, этот тихий взгляд отца, причинял ему боль куда более острую и невыносимую, чем любая ярость, любое желание мести. Он резал по живому, напоминая о том, что он теряет, на что готов променять память о нем.
Он сделал глубокий, прерывистый, всхлипывающий вдох. Борьба внутри него была титанической, раздирающей. С одной стороны – соблазнительная, легкая, мгновенная сила мщения, обещающая заткнуть зияющую дыру в его сердце черной, жгучей яростью. С другой – холодная, невыносимая, горькая как полынь правда и слабый, угасающий, но все еще теплящийся свет памяти о том, кем он был, кем был его отец, и что именно он пытался защитить, жертвуя всем.
– Уходи, – прошептал он, обращаясь к Шепоту, к тьме внутри себя, его голос был беззвучным, полным изнеможения. – Оставь меня. Убирайся.
На миг воцарилась тишина. Давление в его голове ослабло, ядовитое присутствие отступило, но Кедрик отлично чувствовал – оно не исчезло. Оно затаилось в самой глубине, в тенях его души, наблюдая, выжидая следующего момента слабости, следующей волны горя, чтобы снова предложить свой простой, разрушительный выход.
Кедрик открыл глаза. В них больше не было слез. Лишь пустота, как после бури, и хрупкая, но твердая решимость, выкованная в горниле невыносимой боли. Он встретился взглядом с Харганом, потом с Тариком.
И где-то в глубине его души, в тех самых тенях, Шепот тихо, удовлетворенно смеялся, зная, что семя проросло и укоренилось глубоко. Осталось лишь дать ему время, полить его кровью и отчаянием, и оно принесет свой горький, ядовитый плод. Охота продолжалась, и добычей становилась его собственная душа.
Глава Двадцать вторая: Песнь Забвения
Путь, который избрала Рифа, вел прочь от хоть сколько-нибудь обжитых туннелей Мрак-Нура, прочь даже от тайных троп охотников на глубинных спрутов. Он уводил вглубь колоссальной подводной расселины, известной в мрачных хрониках Глубинников как Ун-Даргал – Ущелье Отверженных Снов. Эта зияющая трещина в теле подводного плато казалась незаживающей раной самой Этерии, из которой сочилась тьма древнее, чем первые города ауль-на-мир. Стены этого каньона, черные и скользкие от вечной влаги, уходили ввысь, теряясь в сумрачном подкупольном пространстве, где соленые воды океана смешивались с влажным, спертым воздухом пещеры, создавая вечный, душный туман, в котором тонул взгляд и терялось чувство времени. Воздух здесь был тяжелым, им было трудно дышать, и он пах не просто сыростью, а вековой плесенью и чем-то метафизически тленным.
Стены ущелья, от самого дна до невидимого верха, сплошь были покрыты гигантскими грибами, чьи размеры и формы бросали вызов любым законам биологии поверхности, рожденные под давлением тысячефутовой толщи воды и впитывающие эманации древнего ужаса. Это были Нур-Гхали – Грибы Вечного Покоя. Их ножки, толстые и корявые, как стволы окаменевших древних дубов Этерии, были испещрены пульсирующими биолюминесцентными прожилками, мерцавшими тревожным, ядовитым синим, фосфоресцирующе-зеленым и бледным, похоронным лиловым светом. Шляпки же их, широкие, как поляны для битвы, испускали непрерывный, гипнотический поток густого, искрящегося спорового дыма. Он клубился в воде и воздухе, медленно и неумолимо заполняя все пространство, словно живая, разумная и жаждущая душ пелена забвения. Воздух в карманах пещер был густым, сладковато-приторным, с отчетливой металлической нотой на языке и примесью чего-то гнилостного, от чего немело нёбо, кружилась голова, а сердце начинало биться неровно и тревожно, словно предчувствуя конец.
«Держитесь ближе к скале, в мертвой зоне течения, где споры ложатся гуще, но их поток слабее, – мысленный приказ Рифы был отточенным и твердым, без единой ноты сомнения, словно удар отполированного черного кремня о сталь. – Не вдыхайте полной грудью. Споры Грибов Вечного Покоя не убивают плоть сразу. Они растворяют волю, размягчают разум. Они отворяют врата в ваши глубочайшие страхи и самые сладкие, обманчивые грезы, и те, кто поддается их зову, уже не возвращаются к тому, кем были. Их тела становятся удобрением для новых ростков, их души – частью этой вечной, ложной песни. Это и есть Лес Забвения».
Орлок, плывший сзади арьергардом, язвительно мысленно усмехнулся, и его насмешка, острая и ядовитая, словно жало ската, коснулась их сознания, намеренно лишенная всякой защиты, чтобы причинить боль.
«Для ублюдка и дикарей с поверхности, чьи жизни и так есть сплошная ошибка мироздания, – это благословение, а не наказание. Забвение – лучшая участь для тех, чье существование оскверняет память о великом прошлом. Может, они обретут наконец покой, которого недостойны, и перестанут маячить перед глазами».
Элвин игнорировал его, заставляя себя концентрироваться на каждом движении, на каждом вдохе, который он делал мелко и осторожно. Он плыл рядом с Айлией, стараясь заслонить ее от наиболее густых, клубящихся потоков споровой взвеси, принимая основную дозу яда на себя. Двое выживших стражников из отряда Борена – Элгар и Леод – плыли позади. Их лица под шлемами были землисто-серыми, а пальцы до белизны костей сжимали древки своих коралловых трезубцев – жалкое, беспомощное подобие утерянного при захвате изящного и смертоносного оружия Белой Башни. Самого Борена, все еще слабого от ран, но живого, оставили в Мрак-Нуре – под присмотром жрецов-лекарей и, несомненно, под неусыпным надзором стражи Тар'нука, в качестве залога их возвращения.
Они двигались уже несколько часов, измеряемых лишь медленным смещением мерцающих узоров на стенах, и Элвин чувствовал, как странная, тягучая и навязчивая дремота окутывает его сознание, подобно щупальцам мягкой, ласковой, но смертельной твари. Споры делали свое дело, проникая сквозь поры кожи, смешиваясь с кровью, плетя свои паутины в самых темных уголках разума. Воздух мерцал и плыл перед глазами, рождая миражные всполохи – тени, двигающиеся в такт сердцебиению, лица в узорах породы. Он начал улавливать обрывки чужих мыслей, просачивающихся сквозь ослабевшие ментальные барьеры: животный, липкий, всепоглощающий страх стражников, пахнущий потом и холодным металлом; холодную, целеустремленную, как отточенный клинок, ярость Орлока; стальную, непоколебимую, почти машинную решимость Рифы. А еще… музыку. Тихий, призрачный, нереально прекрасный и оттого вдвойне ужасный хор, что пел на языке, которого не существовало, песнь о вечном покое, о сладком небытии, о конце всей борьбы, всей боли, всех воспоминаний.
«…держи связь… Элвин… – слабый, тонкий, как луч света, пробивающийся сквозь толщу мутной воды, мысленный импульс от Айлии пробился через нарастающий, сладкий дурман – …споры… они вскрывают память… вытаскивают наружу самое сокровенное, самое больное… не верь глазам… не верь ушам… держись за меня… за реальность…»
Он увидел, как она плывет, сжав свой посох-клинок так, что кажется, дерево вот-вот треснет, ее глаза закрыты, бледные губы беззвучно шепчут какую-то древнюю мантру, заученную в тишине библиотек Белой Башни, – может быть, защитное заклятье Ва’лар, переданное матерью. Она пыталась бороться с наваждением, уходя вглубь себя, в цитадель собственного разума, возводя стены из знания и воли.
И тогда Грибы запели громче. Их песнь стала властной, неотступной, физически ощутимой, вибрирующей в костях, резонирующей с самой кровью. Она уже не была просто звуком – она была веществом, давлением, проникающим в душу.
Перед Элвином, затмевая реальность, поплыли образы. Чужие, но жутко, до физической боли знакомые. Он увидел Лох-Нор, но не родной, суровый и прекрасный в своем диком величии, а объятый багровым, неестественным пламенем, под свинцовым, пепельным, безжизненным небом, где не светили ни звезды, ни угасшее солнце. Гигантскую, аморфную, живую Тень, сотканную изо лжи и отчаяния, нависшую над заливом, поглощающую свет и надежду, и крошечные, беспомощные фигурки его сородичей, падающие на знакомых улицах, превращающиеся в пыль. И его мать – молодую, прекрасную, с лицом, искаженным нечеловеческим ужасом, бегущую по горящим, раскалывающимся мостовым с младенцем на руках. С ним самим. И над всем этим, под всем этим, внутри всего этого – безликий, всепроникающий, всепоглощающий Шепот, от которого стыла кровь в жилах и скованный ужас парализовал волю.
– Нет… – прошептал он, и его собственный голос показался ему хриплым, чужим, доносящимся из другого измерения. – Это ложь… это не правда… этого не может быть…
«Правда, – прошипел голос, похожий на шелест гниющих листьев на дне самого черного лесного омута, на скрежет стиснутых зубов умирающего. – Единственное грядущее. Если ты падешь. Если дрогнешь. Если проиграешь. Твой дом станет его домом. Твоя мать – его пищей. Твои люди – его тенями. Все, что ты любишь, будет переписано, осквернено, станет частью великой лжи».
Рядом Айлия вскрикнула – беззвучно, но так отчаянно и пронзительно, что Элвин почувствовал это, словно физический удар в самое сердце. Она замерла, уставившись в пустоту перед собой, ее прекрасное, обычно выразительное лицо исказилось от немого, всепоглощающего ужаса и детской, незаживающей, свежей как вчера болью. По ее щекам, смешиваясь с соленой водой, текли настоящие, горячие слезы.
«Мама… – ее мысленный стон был полон такого бездонного отчаяния и вины, что сердце Элвина сжалось в комок. – Я не смогла… я опоздала… прости… я должна была быть там… я должна была спасти… я видела… я видела тебя в Бассейне Предвидения и не успела…»
Элвин понял. Грибы показывали им не просто случайные кошмары. Они вытаскивали наружу самые глубокие, самые сокровенные, самые незаживающие раны души, самое большое чувство вины, самый страшный, неосуществимый страх. Он изо всех сил попытался до нее дотянуться, мысленно, физически, но течение спорового дыма, густое и вязкое, как кисель из кошмаров, разъединяло их, словно раздвигая сами миры, создавая между ними непроходимую пропасть, через которую не мог пробиться даже его недавно приобретенный дар.
И тогда случилось неожиданное. Рифа, плывшая впереди, как непоколебимый маяк в этом бушующем море безумия, резко развернулась. Ее лицо, обычно являвшее собой образец непроницаемого самообладания и холодной отрешенности воина, было напряжено, в уголках губ залегла суровая складка, а в глазах, обычно пустых, мелькнула искра чего-то знакомого – может быть, собственного старого страха. Она увидела состояние Айлии, ее полную отрешенность от реальности, ее погружение в абсолютный ад, и… замедлилась. Она не стала кричать на нее, не стала подбадривать пустыми, ничего не значащими словами. Она просто проплыла рядом, разрезая густую споровую взвесь, и, встретившись с ее пустым, невидящим, затопленным слезами взглядом, бросила ей прямо в сознание короткую, яркую, болезненную, как удар ножом, вспышку – обрывок собственной памяти, незаживающей раны, своей самой большой тайны.
Стыд. Всепоглощающий, жгучий стыд. Горечь, кислая, как уксус. Юная Рифа, ее лицо перекошено слепой, животной яростью, стоит над телом поверженного соплеменника, воина из враждебного клана Глубинных Буравов. Не в честном поединке за ресурсы, не в битве с общим врагом, а в угаре слепого, бессмысленного гнева из-за украденной на охоте добычи – гигантского слепого омара. И горькое, леденящее душу осознание, обрушившееся на нее сразу после, что победа не принесла ни славы, ни удовлетворения – лишь гнетущую, тошную пустоту в груди и всесокрушающую боль, что единит всех, кто знает цену несправедливо пролитой крови. Боль, что не делает избранным или сильным, а лишь приземляет в грязь, показывая ничтожность перед лицом собственной глупости.