Сертаны. Война в Канудусе
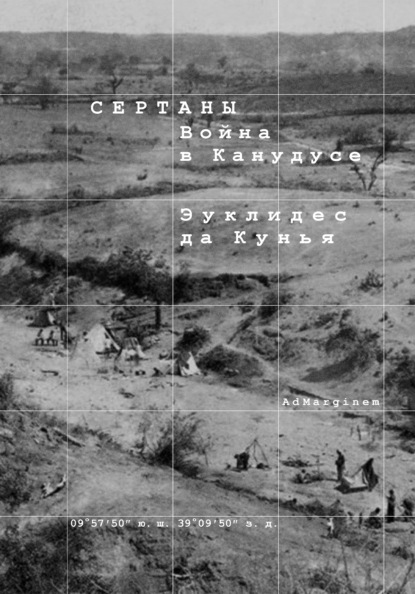
- -
- 100%
- +
Ввиду сего мы придали ей новый вид, сместив акцент с основной темы на другую.
Мы попытались оставить для будущих историков очень и очень бледное представление о наиболее примечательных сегодня чертах низших рас, обитающих в бразильских сертанах[1]. Подгоняет нас тот факт, что нестабильность разнообразнейших факторов и множества их сочетаний вкупе с историческими событиями и достойным жалости душевным состоянием таких рас может в скором времени привести их на грань исчезновения под напором всё растущих требований цивилизации и усиливающегося материального соперничества миграционных потоков, которые начинают глубоко проникать в наши земли.
Бесстрашный жагунсу, наивный рекрут-табареу и простак-кайпира вскоре станут типажами на грани исчезновения или вовсе вымрут.
Они – первые плоды разнообразных кровосмешений, от которых могла бы взять начало новая великая раса. Но им недоставало покоя, равновесия: его не допускает скорость, с которой развиваются в нашем веке народы. Сегодня они в числе отстающих; завтра они совсем вымрут.
Цивилизация проникнет в сертаны, ведомая той непреодолимой «движущей силой Истории», которую превосходящий Гоббса* гений Гумпловича* разглядел в неизбежном сокрушении слабых рас сильными.
Поэтому значение Канудусской кампании состоит в том, что она стала первой атакой в битве, которой суждено быть долгой. Не уменьшает этого значения и то, что эту атаку провели мы, сыновья той же самой земли; ведь, не имея ни определенной этнической принадлежности, ни единых национальных традиций, паразитируя на берегу Атлантического океана на созданных в Европе принципах цивилизации, вооруженные немецкой промышленностью – мы сыграли свою необычайную роль бессознательных наемников. Во многом неизведанная земля едва-едва соединяет нас с этими необычайными соотечественниками; а разделяет нас историческая веха – время.
Та кампания напоминает возвращение в прошлое.
Она была преступлением – в совершенно полном смысле этого слова.
Осудим его.
И, поскольку того требует прямота нашего духа, отдадим должное удивительно ясному представлению Тэна* о честном рассказчике, который смотрит на Историю так, как должно на нее смотреть: «Оттого что он любит только абсолютно истинное, его раздражает полуистина – она то же, что полуложь; его раздражают авторы, которые хотя и не изменяют ни хронологии, ни генеалогии, но превратно изображают чувства и нравы; которые сохраняют лишь очертания событий и совершенно изменяют их окраску; которые списывают факты и искажают смысл; он же среди варваров хочет чувствовать как варвар; среди древних – как древние»[2].
Земля
Глава I
Введение
Центральное плоскогорье Бразилии спускается на южное побережье строгими, высокими и обрывистыми склонами. Оно величаво возвышается над морем; а от Риу-Гранди до Минас-Жерайса оно делится на сравнительно небольшие плато, стоящие вровень с приморскими горными цепями. Но к северу его высота постепенно снижается, и на восточное побережье оно опадает ярусами, или многочисленными террасами, которые отнимают у него былое величие, а его само отталкивают значительно дальше на материк.
Таким образом, человек, огибающий его, направляясь к северу, наблюдает примечательные изменения рельефа: поначалу непрерывная черта высоких гор, утесами нависающая над береговой линией; затем, на участке побережья между Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту, неровный береговой рельеф из изломанных горных хребтов, усеянных острыми зубьями, и подточенный бухтами, и разрываемый заливами, и дробящийся на острова, и рассыпающийся голыми рифами, словно следы давнего сражения, которое ведут между собою море и земля; после, за 15-й параллелью, все неровности рельефа сглаживаются: горные хребты округляются, становятся плавнее контуры их уклонов, разбитых теперь на холмы, чьи склоны едва виднеются на расширившемся горизонте; и вот, наконец, посреди береговой линии штата Баия взор, свободный от горных шор, которые ограничивали перед этим поле зрения, привольно устремляется к западу, ныряя в просторы бескрайней земли, что неспешно раскрывается в далекой ряби плоскогорий…
Подобный географический облик – краткое изложение морфогении* огромного континентального массива.
Это доказывает более углубленное рассмотрение разреза по любому меридиану в районе бассейна реки Сан-Франсиску.
Действительно, видно, что три различные геогностические* формации неопределенного возраста сменяют друг друга или чередуются в непохожих стратификациях, так что форма различных черт земного лика определяется исключительным доминированием одних или сочетанием всех трех.
Сначала появляются могучие гранито-гнейсовые* массы, которые уже на крайнем юге закручиваются в огромный амфитеатр, открываясь великолепными пейзажами, которые в такое восхищение и восторг приводят неопытный взгляд чужака. До са́мого конца (до побережья Сан-Паулу) они идут вдоль моря непрерывной горной цепью, не расходясь по сторонам, словно огромная стена, подпирающая осадочные континентальные формации. Земля смотрит на океан с высоты своих утесов; тому, кто поднимется на них, словно на рампу великолепно убранной сцены, простятся все описательные преувеличения – от гонгоризма* Роши Питы* до гениальной экстравагантности Бокля*; согласно таким описаниям, это уникальный край, где находится самая впечатляющая мастерская природы.
И правда, ни одна другая область не является столь же пригодной для существования и процветания жизни с трех точек зрения: астрономической, топографической и геологической.
Перейдя горы и оказавшись в сверкающей зоне тропиков, мы увидим уходящие на запад и на север широкие плато, чьи горизонтальные слои глинистого песчаника, испещренные выходами на поверхность известняков, или цепи вулканических скал объясняют и несравненное изобилие, и широкие плоские равнины. Земля притягивает человека, и он бессилен ей сопротивляться, она сама толкает его к стремительным рекам, которые – от Игуасу до Тьете́ – сплетаются в оригинальнейшую гидрографическую сеть, бегут от побережья к сертанам*, как будто, рождаясь в морях, они несут его вечную энергию к далеким богатым лесам. Их полноводные русла легко прорезают эти слои и дарят землям за Парано́й широкие, бескрайние волнистые равнины.
А вот к северу природа уже другая.
Она обретает грубые очертания жестких плит обнаженного гнейса*; а уклон плоскогорий ломает террасы Мантике́йры, чтобы впустить в себя Параибу, или взрывается холмами, которые, указав на высокие вершины, возглавляемые Итатиа́йей, ведут высокогорный ландшафт побережья в глубину Минас-Жерайса. Но по мере продвижения в глубину этого штата всё заметнее, несмотря на многочисленные горные хребты, становится то, что к северу они медленно спускаются. Как на высоких плоскогорьях Сан-Паулу и Параны, все реки свидетельствуют об этом неуловимом стремлении: их русла начинают извиваться, пока они, рассерженные, пытаются преодолеть бесконечные трудности гор. Риу-Гранди живою волной пробивает себе путь через Серра-да-Кана́стру; и, ведомые меридианом, открываются впереди глубокие эрозионные долины Риу-дас-Ве́льяса и Сан-Франсиску. В то же время, стоит нам перейти возвышенности, что идут от Барбасе́ны к Оуру-Прету, как примитивные формации пропадают даже на крупных холмах, скрытые под сложным слоем метаморфических сланцев с богатыми вкраплениями – как часто бывает в легендарных золотоносных краях.
Структурные изменения порождают еще более внушительные картины, чем на берегу моря. Это всё продолжение горного края. Природа скал, наблюдаемая у подножия кварцитовых холмов или в нагромождениях итаколумита на горных вершинах, оживляет все элементы рельефа, начиная с массивов, что тянутся от Оуру-Бранку к Сабара́, до края алмазных приисков, расширяясь к северо-востоку на плоскогорьях, идущих вровень с вершинами горного хребта Эспиньясу; тот, несмотря на говорящее название[3], данное ему Эшвеге*, почти неотличим среди величественных вершин. Оттуда к востоку катятся, прыгая водопадами или подскакивая на порогах, все реки от Жекитиньо́ньи до Риу-До́си – они несутся к нижним ярусам плоскогорья, что прижались к горному хребту Айморе́с; там направляют успокоившиеся воды к западу те из них, что спешат к бассейну реки Сан-Франсиску. В ее долине, за лежащими к югу любопытными, испещренными озерами известняковыми формациями Риу-дас-Вельяса, где полно воронок и подземных рек, где открываются пещеры доисторического человека Лунна*, выделяются другие переходы в поверхностном строении почвы.
Действительно, предыдущие слои, которые, как мы видим, покрывают гранитные скалы, исчезают под другим, более современным, толстым песчаниковым слоем.
Новый геологический горизонт являет нам свои оригинальные и любопытные черты. Он пока мало изучен; ему свойственно значительное орографическое* значение, так как владычествующие на юге горные цепи доходят сюда погребенными под мощными недавними слоями. Рельеф тем не менее всё еще приподнят, он расстилается широкими равнинами или набухает ложными денудационными* горами, склоны которых круты, но хребет плосок и горизонтален – лишь на востоке виднеются вершины далеких прибрежных отрогов.
Таким образом, налицо тенденция к уплощению.
Ибо в этом сочетании континентальной возвышенности и низменности архейских формаций горная область постепенно, без резких скачков переходит к широкой зоне северных плоскогорий.
Касающийся окраин Баии хребет Гран-Мого́л – первый пример этих великолепных плоскогорий, которые своим подражанием горным цепям вводят в заблуждение невнимательных географов; и его соседи, Серра-ду-Кабра́л, что поближе, и Мата-да-Ко́рда, что тянется к Гойясу, имеют точно такое же строение. Бороздящие их полости, вызванные эрозией, представляют собою выразительные геологические разрезы. Начиная от основания, они показывают те же породы, которые, как мы видели, сменяют друг друга на долгом пути к поверхности: внизу гранитные высыпания, громоздящиеся на дне долин редкими холмиками; посередине более молодые наклонные сланцы; а сверху на них давят или окружают их в моноклинальных длинах простыни песчаника, которые здесь царят, позволяя метеорологическим факторам ваять из своей податливой поверхности самые причудливые фигуры. Лишенные вершин крупные горные хребты – всего лишь высокие равнины, широкие плато, внезапно прерванные резкими обрывами: это бурный климат наотмашь бьет своим резцом подвижную, пористую землю. Многие века тому назад сюда устремились мощные потоки; сначала они работали как дренажные каналы, постепенно эти каналы превратились в глубокие лощины, а лощины – в каньоны, и так появились наклонные долины, над которыми нависли крутые склоны и скалистые обрывы. Их вид отвечает степени стойкости перемалываемых стихией материалов: здесь упрямо встают над ровной поверхностью последние фрагменты погребенных пород, разворачиваясь высокими утесами, – древние «бразильские Гималаи», непрерывно рассыпающиеся на протяжении веков; впереди более капризные неровные шеренги и круги колоссальных менгиров*, напоминающих расположением громадных, взваленных друг на друга булыжников цепи разрушенных стен циклопических колизеев в руинах или видом величаво нависающих над равнинами уклонов – обломки сводчатых арок, остатки чудовищного купола древней горной цепи…
А в некоторых точках они исчезают совершенно.
Тогда тянутся бескрайние равнины. Взбираясь на сотни метров по приподнимающим их уклонам, которые делают их похожими на подвешенные плато, встречаются друг с другом обширные территории, окруженные бесконечными морями. Это прекрасный край полей на волнистых плато – огромные горные равнины, где живет простой народ скотоводов…
Давайте же пересечем его из конца в конец.
Дальше, начиная с Монти-Алту, эти естественные формации разделяются: прямо к северу песчаниковая порода идет до песчаного плато Асуруа́ вместе с известняком, оживляющим берег большой реки, привязывая его к линии изрезанных холмов – выразительный пример этому мы видим в фантастическом профиле Бон-Жезус-да-Ла́пы. А к северо-востоку, благодаря сильному понижению (поскольку Серра-Жера́л проходит там щитом перед пассатами, которые конденсируются и выпадают ливнями, что несут потоп), восстают, вновь обнажившись, древние формации.
Горы выходят из-под земли.
Вновь уже в Баии появляются рельефы, свойственные краю алмазных россыпей – точно такие же, как и в Минасе, как будто это их разделение или, скорее, продолжение, поскольку всё та же формация, наконец процарапав песчаниковое одеяло, вырастает теми же неровными горными очертаниями столбов Серра-да-Тро́мбы или, к северу, покрывается сыпью гуронских сланцев параллельной горной цепи Синкора́.
Однако, начиная отсюда, ось Серра-Жерала становится прерывистой. Хребет рассыпается. Горная цепь ощетинивается контрфорсами и зубьями, откуда на восток уходят истоки реки Парагуасу, и лабиринт изломанных гор – невысоких, но бесчисленных – вторгается на равнины, покрывает их все. Меняется топографический характер местности, который теперь отражает бессильную тысячелетнюю борьбу стихий, бьющихся меж разрушенных гор; и плоскогорья, прежде опускавшиеся плавно и постепенно, теперь устремляются вниз скачками. Открывает их Сан-Франсиску, что живо вьется к востоку, указывая собою общее преображение земли.
Здесь она более низкая и неровная.
Она опускается к низшим ярусам посреди беспорядочно разбросанных холмов. Последний отрог основной горной цепи – Итиу́бы – дает ей еще несколько неуверенных ответвлений, смыкаясь на севере с Фурной, Кока́йсом и Синкора. На миг она возвышается, чтобы сразу начать клониться во всех направлениях: к северу четырехсоткилометровой равниной вдоль реки Собради́нью; к югу рассеянными осколками, докатывающимися до Мо́нти-Са́нту; и к востоку, ныряя под плато Жеремоа́бу, чтобы проявить себя величественным водопадом Па́улу-Афо́нсу[4].
И наблюдатель, который, пройдя по этому пути, оставил позади себя прекраснейший контраст бескрайних равнин и суровых горных гряд, замирает в изумлении…
Вход в сертан
Он находится на северном возвышении континентального массива.
С одной стороны в двух секторах его ограничивает полукругом река Сан-Франсиску; с другой – изгибается к юго-востоку петляющая река Итапикуру́-Асу́. Вдоль медианы, почти параллельно бегущей между ними, виднеется так же явно стремящееся к атлантическому побережью русло другой реки – Ваза-Баррис, которую индейцы тапуйя* называли Ирапира́нгой; участок ее течения от Жеремоабу к верховьям – мечта картографа. В самом деле: на поразительном наклонном участке, где к морю или к водопаду Паулу-Афонсу спускаются изрезанные оврагами рампы плоскогорья, нет условий для нормальной гидрографической сети. Там потоки иссякают хаотическим образом, что придает этому уголку Баии ее исключительный дикий облик.
Terra ignota[5]
Нужно понимать, что до сих пор у нас имеется чрезвычайно мало точных и детальных сведений об этом огромном участке земли, размерами почти равном Голландии (9º11´–10º20´ широты и 4º–3º долготы). Лучшие из наших карт дают скудную информацию, и описываемая область представляет собой белое пятно – Terra ignota, куда устремляется непостоянная река и где заплутала тень горной цепи.
Ибо те поселенцы, что продвинулись дальше всего, в южной части интересующего нас края переправились через Итапикуру́, осели в миниатюрных поселениях – таких как Масакара́, Ку́мби или Бон-Консе́лью, на фоне которых пришедший в упадок Монти-Санту кажется большим городом; на юго-востоке преодолели хребет Итиуба и разошлись у его подножия по поселкам на берегу пересыхающих ручьев, окружив себя редкими скотоводческими фазендами, сходящимися к безвестной деревушке – Уауа́; а на севере и востоке остановились на берегах Сан-Франсиску, от Капин-Гро́ссу до Са́нту-Анто́ниу-да-Гло́рии.
Только на последнем направлении имеется старинный городок – Жеремоабу, памятник самого далекого проникновения в эти края, которые оставались за пределами движения волн переселенцев, шедших вглубь континента с побережья Баии.
Те волны, что доходили досюда в поисках короткого пути, откатывались, не оставляя никаких следов.
Никто здесь не задерживался – потому что не мог. Чу́дной территории менее чем в сорока лигах от старой метрополии[6] было суждено полное забвение на всём протяжении нашей четырехсотлетней истории[7]. Ибо, когда бандейранты* с юга оказывались на ее краю и взирали на нее потом со склонов Итиубы, чтобы устремиться в сторону Пернамбуку и Пиауи, а потом и Мараньяна, экспедиции с востока отступали перед неприступной преградой – водопадом Паулу-Афонсу – к Парагуасу́ и другим рекам к югу, чтобы там найти более легкий путь. Эти земли остались непроницаемыми, недоступными, непознанными.
Дело в том, что даже тех путников, что шли по последнему, кратчайшему маршруту, приводил в изумление необычный облик полной неожиданностей земли.
Оставив побережье и устремившись прямиком на запад, они через несколько лиг теряли запал, присущий отважным «энтра́дам»*, а мираж изобильного края исчезал. Начиная от Камассари́, древние формации покрываются скудными пятнами третичного периода, чередующимися с маленькими меловыми бассейнами, осыпанными песком Алагои́ньяса, которые еле скрепляют на востоке известняковые высыпания Иньямбупи. Окружающая растительность меняется, как будто под кальку копируя эти геологические изменения. Леса редеют или оскудевают, чтобы наконец, осыпав горные хребты последними редкими деревьями, совсем исчезнуть; но и эти леса, встречающиеся на пути всё реже и реже, сбиваются в кучки или спасаются на возвышенностях посреди голых полей, где характерная флора – гибкие кустарники вперемешку с алыми бромелиями – занимает собою обширные территории, не желая уступать мощной растительности Пожу́ки на плодородной почве разрушенных слоев мелового периода.
Начиная отсюда, вновь проявляются бесплодные третичные породы, покрывая собою более древние участки, которые всё еще превалируют в центральной части Серриньи. Холмы Ло́песа и Лаже́ду гордо возвышаются бесформенными пирамидами из округлых и гладких валунов; и далее возвышенности, огибающие с обеих сторон подножия Серра-да-Сауди и Итиубы вплоть до Вила-Нова-да-Раиньи и Жуазе́йру, имеют те же самые очертания потрескавшихся склонов, обнажающих изломанный горный скелет.
Возникает впечатление, что мы обходим неприветливый обрыв высокого плоскогорья.
Действительно, мы идем по дороге трехвековой давности, исторической тропе, по которой суровые покорители сертана шли вглубь континента.
Дорога осталась какой была.
И цивилизация позже не изменила ее, проложив вдоль следов, оставленных бандейрантом, рельсы железной дороги.
Ибо дорога из Баии к Жуазейру в сто лиг длиною, от которой к западу и к югу отходят бесчисленные ответвления, никогда не имела достойной альтернативы к востоку и к северу.
Поселенцы, шедшие по ней к Пиауи, Пернамбуку, Мараньяну и Пара, разделялись соответственно своей цели в Серринье. И продолжая путь к Жуазейру, и сворачивая направо по королевской дороге к Бон-Конселью, которая с XVII века приводила их к Санту-Антониу-да-Глории и к Пернамбуку, и те и другие неизменно обходили стороной неуютные и пустынные земли, избавляя себя от мучительного путешествия.
Таким образом, две эти дороги, пересекающие Сан-Франсиску в отдаленных друг от друга пунктах – в Жуазейру и в Санту-Антониу-да-Глории, с тех времен являлись границами пустыни.
На пути к Монти-Санту
Тем не менее путник, который решится пересечь ее, отправившись из Кеймадаса к северо-востоку, поначалу не будет удивлен. Петляющая Итапикуру питает состоящий из многолетников растительный покров, а скалистые овраги Жакуриси укрыты небольшими рощами. Песчаная почва и плоский рельеф дают возможность беспечного и быстрого продвижения. По обе стороны дороги расстилаются невысокие плоскогорья. Камни, выходящие на поверхность горизонтальными плитами, не двигают почву, царапая легкое одеяло покрывающих ее песков.
Однако затем пейзаж постепенно становится всё более засушливым.
Выйдя из узкой полосы идущих вдоль последней реки серраду*, мы попадаем в зону «агре́сти»* или, как говорят местные жители, в самый жар: нас встречают кустики, едва стоящие на окаменевшей земле в окружении скудной растительности, над которой одиноко вырастают жесткие гиганты-цереусы*, делая ландшафт похожим на окраину пустыни. Так, медленно и внушительно, перед нами предстает облик этого негостеприимного сертана…
Поднимемся на любую возвышенность – и увидим его или различим вдалеке, на печальном фоне монотонного горизонта, покрытого неизменным обожженно-бурым пятном каатинги*, – и никаких более оттенков…
По дороге еще встречаются более плодородные места, и на тех отрезках, где имело место разрушение гранита, приводящее к появлению песчаниковых пятен, видны зеленые кроны оурикури*, стоящие на берегах ипуэйр*, – краткие исключения из всеобщей сухости. Такие мертвые озера, согласно образной этимологии наших коренных народов, говорят путешественнику о необходимости сделать остановку. Как колодцы и «калде́йры», где земля проваливается, они – единственные места передышки на полном тягот пути. Это настоящие оазисы, но вместе с тем они нередко имеют мрачный вид: прячутся в низменностях между голых холмов, охраняемые грустными и голыми цереусами, точно призраками деревьев; или в лощинах между плато, заметно выделяясь на пыльно-бурой земле зелено-черной пленкой одноклеточных водорослей.
Некоторые из них свидетельствуют об усилиях сыновей сертана. Их окружают, словно плотины, сухие кладки топорных стен, которые напоминают древний памятник. Как правило, они – общее достояние тех, кто преодолевает тяготы свирепого климата, – были созданы в далеком прошлом. Их построили люди, что впервые отважились углубиться в эти края. И они стоят нерушимо, так как житель сертанов, даже идя налегке, всегда имеет с собой камень, чтобы укрепить хрупкую постройку.
Но стоит покинуть эти места – несовершенную копию римских акведуков, останки которых еще стоят в Тунисе, – и мы идем по иссушенным землям. И как бы быстро ни шел путник, особенно по отрезкам, где друг друга сменяют невысокие гряды одинаковой формы и одинакового расположения, ему будет казаться, что он стоит на месте. Перед ним предстают одни и те же картины, один и тот же неизменный горизонт, отдаляющийся по мере продвижения. Изредка, как, например, в маленьком поселке Кансанса́н, встречаются крупные участки плодородной земли, покрытые зеленой растительностью.
Тут и там разбросаны бедные жилища; некоторые из них заброшены, так как их оставили из-за засухи; другие представляют собой руины; все они своим жалким видом усугубляют меланхолию пейзажа…
Однако вблизи Киринкинкуа́ почва приходит в движение. Воздвигнутое там небольшое поселение уже возвышается на просторной гранитной поверхности, а если посмотреть на север, мы различим совершенно другую область – вздымающуюся долинами и горными хребтами, чьи зубья уходят далеко-далеко. Впереди встает дыбом хребет Монти-Санту, полная противоположность округлым очертаниям, которые изобразил знаменитый Марциус*: могучая вершина из бело-голубоватого кварцита возвышается над массой гнейса, образующей поверхность почвы. Его огромный уклон, испещренный обнаженными воздушной эрозией линиями пород, напоминает монументальную куртину. Хребет венчает высокая вершина, застывшая в направлении 13-й параллели к северо-востоку прямо над городком, что притулился у его подножия. Она находится прямо посередине горизонта. Тогда можно заметить, что сглаженный к югу и востоку рельеф продолжает вздыматься неровностями к северу.
Поселение Калдейра́н, что в трех лигах впереди, стоит на краю этой метаморфической возвышенности; и, пройдя по ней и преодолев ее, мы, наконец, погружаемся в душный сертан…
Первые впечатления
Его вид впечатляет.
Там структурные данные почвы вкупе с сильнейшей жестокостью внешних факторов создают фантастический рельеф. Сезоны бурных наводнений, внезапно сменяющие в этом чрезмерном климатическом режиме затяжные периоды солнечного нагрева, издавна воздействовали на самые древние залежи последних гор и разрушали утесы, вымывая из них все жизненные силы (все кристаллические образования, все жесткие кварциты и известняки, которые встречаются теперь повсюду, еле прикрываемые скупой флорой) и создавая столь истерзанный облик пейзажа.
Ибо то, о чем они говорят – сбитою землею, почти обнаженными холмами, судорогами сухих русел эфемерных рек, узкими ущельями и конвульсиями бедной иссушенной флоры, – есть в некотором роде мученичество земли, которую жестоко избивают изменчивые стихии, перебирающие все климатические вариации. С одной стороны, летом крайняя сухость воздуха заставляет голые скалы в одно мгновение отдать весь накопленный за день жар, вызывая внезапные скачки температуры; отсюда и беспрестанные расширения и сжатия, что разрывают их по линии наименьшего сопротивления. С другой стороны, дожди, которые без предупреждения кладут конец знойным циклам засух, ускоряют эти медленные реакции.

