Сертаны. Война в Канудусе
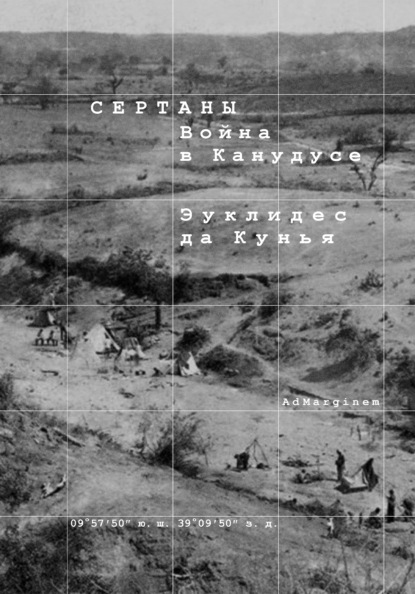
- -
- 100%
- +
Воздействующие на землю силы вгрызаются в ее внутренности и поверхность, непрерывно разрушая их, пока с неумолимой регулярностью чередуются два единственных здесь времени года.
Обжигающим летом они раздирают ее; бурною зимою подтачивают. От идущего исподволь расшатывания молекула за молекулой они переходят к могучей динамике бурь. Они соединяются, дополняют друг друга. И в зависимости от того, какая из этих сил превалирует – а может быть, они обе действуют одновременно, – меняется облик природы. Те же россыпи гнейса, имеющие причудливую, почти геометрическую форму обтесанных камней и возникающие тут и там в огромном количестве, так что порой кажется, что посреди пустыни стоят руины величественных замков, – встречаются с беспорядочно разбросанными валунами, что едва держатся на узком основании, накренившись, готовые упасть и покатиться, словно качающиеся каменные ящики или гигантские обрушенные дольмены*; а далее они исчезают под нагромождением каменных плит, являя собою прекрасный пример «каменных морей», столь свойственных местам, где царят экстремальные климатические условия. По подножиям сгрудившихся вокруг холмов – что представляют собой останки старых изъеденных плато – рассыпаются то ровными линиями, словно путь схода древних ледников, то как попало широкие полосы булыжников и разбитых плит, свидетельствуя о такой же самой жестокости. Грани обломков, где в кварце еще видны вкрапления кристаллов полевого шпата, вновь свидетельствуют об этом физическом и механическом воздействии, которое, поставив себе на службу химические действующие вещества, что работают в зависимости от нормальных метеорологических условий, разрушает скалы, не трогая их основополагающего строения.
Таким образом, на каждом шагу, повсюду мы видим наглядные черты крайней грубости. Ее отчасти сглаживают расположившиеся в низменностях равнины, чаши древних озер, от которых сегодня остались заболоченные ипуэйры – точный признак пастушьего жилища. Но и их пересекают, словно открытые гробы, русла, как правило, сухих ручьев, наполняющихся водой только в короткий сезон дождей. Большинство из них перегорожено запрудами из тяжелых валунов, между которыми, если нет внезапного паводка, течет тоненькая струйка воды; они – точное повторение уэдов* на краю Сахары. Как правило, края этих оврагов открывают слой темно-синих тальковых сланцев, полированная поверхность которых отражает солнечный свет металлическим блеском, – а над ними находятся покрывающие обширные площади менее стойкие слои красной глины с вкраплениями кварцевых жил, что вторгаются в ее границы. Эти последние образования, может быть относящиеся к силуру, по мере продвижения на северо-восток начинают покрывать собою все остальные, обретая более правильные контуры. Они проясняют генезис невысоких плоскогорий, которые расстилаются, покрытые стойкими манговыми деревьями, до Жеремоабу.
Однако к северу слои становятся всё более наклонными. Одна за другой идут голые горки с крутыми утесами, падающие в прорезываемые периодическими ливнями лощины; а на их вершинах видны те же лезвия кварцевых вкраплений, обнаженных разрушением сланцевой породы.
В жестоком свете сертанов эти жесткие холмы ослепительно-изумительно сверкают, распространяя горячие лучи.
Однако постоянная эрозия нарушает цепочку таких слоев, которые к тому же в других местах исчезают под известняковыми формациями. Но общий вид почти не меняется. Руиноподобный облик хорошо сочетается с другими элементами рельефа. А на отрезках, где эти формации расстилаются по земле, беззащитные перед едкой кислотностью проливных дождей, они изрешечены круглыми впадинами и глубокими расселинами – маленькими, но многочисленными, с острыми краями, усеянными жесткими камешками и рогульками, что не дают по ним идти.
Таким образом, по какой тропе мы ни пойдем, везде нас ждут невысокие, но крутые возвышенности, по которым петляют дороги, когда не идут лига за лигой вдоль пустых русел иссякших ручьев. И даже у неопытного наблюдателя, который оставил за собою, к югу, величественные виды, променяв их на страдальческую картину этой мучимой природы, возникает настойчивое впечатление, что он идет по вдруг обнажившемуся дну высохшего моря, которое еще хранит след бурных волн и водоворотов…
Мечта геолога
Это внушительное сравнение.
Оно вполне в духе несколько романтического натуралиста[8], воображающего, что в третичном периоде здесь долгое время бушевали волны и спорили меж собою течения.
Ибо, несмотря на нехватку данных, позволивших бы сделать такое ретроспективное пророчество – по остроумному выражению Гексли*, – чтобы обрисовать вид этой области в отдаленные эпохи, все доступные нам составляющие подкрепляют подобное смелое предположение.
В его пользу также свидетельствуют: странное обнажение земли; примечательные линии расколотых пород, рассыпанных по склонам гор; плоскогорья, кончающиеся высоким уклоном, напоминающим отвесные уступы на морском побережье; и, до некоторой степени, останки фауны плиоцена, благодаря которым лощины превращаются в огромные кладбища мастодонтов, усеянные осколками скелетов, как будто жизнь здесь подверглась внезапному и смертоносному действию бурной энергии какого-то катаклизма.
Есть и непосредственные данные, которые говорят об этом. Исследования Фредерика Хартта*, действительно, показали явное наличие меловых залежей неподалеку от Паулу-Афонсу; а поскольку составляющие их ископаемые останки идентичны найденным в Перу и в Мексике, а также современны обнаруженным в Панаме Агассисом*, все эти данные ведут к одному выводу: на пограничье обеих Америк существовал океан, соединявший Атлантический с Тихим. Этот океан покрывал большую часть северных бразильских штатов, омывая высшие террасы столовых гор, где богатые осадочные породы свидетельствуют о еще более древней эре – среднем палеозое.
Итак, самые высокие вершины наших гор возвышались над большими островами, указывая на север, в бескрайнее одиночество вод…
Не было Анд: Амазонка, огромный канал между нагорьями Гвианы и континентом, делил их на острова. К югу вырастал массив Гойяса – древнейший в мире, согласно выводам Гербера, массив Минас-Жерайса и часть плоскогорья Сан-Паулу, где в неутомимых трудах сверкал вулкан Калдас; это было ядро будущего континента…
Ибо всё в мире медленно вырастало: гранитные массы возвышались к северу, заставляя общий массив земли неспешно вращаться вокруг оси, которая, по предположению Эмманюэля Лиэ*, располагалась между нагорьями Барбасены и Боливией. Одновременно с началом третичного периода чудесным образом восстают Анды; из вод вырастают новые земли: амазонский канал с одной стороны упирается в стену, превращаясь в самую крупную реку; растут рассеянные архипелаги и сплетаются перешейками, и сливаются; округляются укрупняющиеся очертания береговых линий; и медленно складывается Америка.
Тогда земли крайнего севера Баии, до этого представлявшие собой разделенные водою кварцитовые островки Монти-Санту и атоллы Итиубы, принялись неустанно расти. В этом неспешном возвышении, пока самые высокие покинувшие море участки полнились озерами, вся средняя часть уклона оставалась под водой. Ее огибало мощное течение, о котором сегодня напоминают очертания нашей береговой линии. Оставшаяся часть страны уже успела сформироваться на юге, а течение всё било этот уклон, и точило его, и дробило, относя к западу все вымытые материалы, – оно ваяло этот уголок Баии, пока тот, наконец, не вышел на поверхность, следуя общему движению земли, словно бесформенная куча разрушенных гор.
Тогда там установился пустынный климат, резко противоречащий географическим условиям: сертан раскинулся на уклоне, где ничто не напоминает классические пустыни с плоскими низменностями.
Считается, что этот регион только готовится к Жизни: лишайник еще нападает на камень, оплодотворяя землю. И, упрямо сражаясь с бичующим ее климатом, обладающая редкостной стойкостью флора плетет там свою сеть корней, частично препятствуя вымыванию из почвы всех растворенных элементов – понемногу накапливая их по мере завоевания пустынных мест, чьи очертания она смягчает, – не препятствуя тем не менее безжалостному летнему зною и диким зимним водам опустошать ее.
С этим и связано болезненное впечатление, охватывающее нас по мере перехода через этот неизведанный участок сертана – почти пустыню, – независимо от того, прижимаемся мы к складкам голых гор или монотонно шагаем по обширным пустошам…
Глава II
Взгляд с вершины Монти-Санту
Если смотреть с высоты хребта Монти-Санту на расстилающийся на пятнадцать лиг регион, можно разглядеть, как на рельефной карте, ее орографические характеристики. Мы увидим, что горные цепи, вместо того чтобы уходить на восток между руслами Ваза-Барриса и Итапикуру, являясь их водоразделом, – продолжают свой путь к северу.
Это показывают хребты Серра-Гра́нди и Атана́зиу, которые, поначалу отдельно друг от друга, бегут первый на северо-запад, а второй на север, чтобы соединиться в хребте Акару, откуда сочатся пересыхающие источники Бендего́ и его сезонных притоков. Вместе они примыкают к горе Караи́бас и к хребту Серра-ду-Ло́пес, чтобы вновь набухнуть массивом Камба́йю, от которого отходят маленькие гряды Кошомонго́ и Калумби, а к северо-западу – башни высот Кайпа́на. Вслед за ними гряда Аракати, устремляясь на северо-запад, к утесам Жеремоабу, продолжает прерывистое движение в том же направлении, а после того как в Кокоробо ее прорезает река Ваза-Баррис, поворачивает на запад, разделившись на продолжающие ее Канабра́ву и По́су-ди-Симу. Итак, все эти горы рисуют эллиптическую кривую, с юга закрытую холмом Фаве́ла*, в окружении широкой волнистой равнины, где было возведено поселение Канудус, – чтобы к северу снова опасть и распасться на высокие плато у берегов Сан-Франсиску.
Таким образом, восходя к северу, в направлении точимого Парнаибой нагорья, эта цепь плоскогорий как будто встряхивается, сотрясая весь бассейн Сан-Франсиску ниже слияния с Патамуте́ – всю эту сеть бесчисленных потоков, которые и приблизительно подсчитать не получится, – заставляя Ваза-Баррис принять извилистый вид, от которого он избавится у Жеремоабу, когда повернет к побережью.
Это река без отходящих притоков. Она не отвечает земному наклону. Впадающие в нее маленькие притоки, Бендего и Караибас, катят воды (когда они есть) по своим кое-как вырытым руслам, игнорируя рисунок рельефа. Они эфемерны – существуют только в сезон дождей. Скорее, это дренажные каналы, случайно открытые паводками, – или быстрые потоки, которые, находясь в окружении ближайших элементов рельефа, нередко забывают об общих орографических правилах. Эти реки поднимаются. Они внезапно наполняются; выходят из берегов; русло их становится глубоким, и вода преодолевает препятствие в виде естественного уклона поверхности; несколько дней они текут к основной реке; и исчезают, вновь оборачиваясь извилистыми, каменистыми и сухими долинами.
Сам Ваза-Баррис, река без истоков, на дне которого зеленеет трава и пасутся стада, не петлял бы так, если бы постоянная водность непрерывно и долго выравнивала его. Его роль в качестве геологической силы огромна. Чаще всего он прерывист, разорван на стагнирующие запруды или сух; но приняв в себя пролитые небом дикие воды, он на несколько недель становится мутной и стремительной рекой, чтобы внезапно полностью вылиться, протечь – как говорит его португальское название[9], успешно сменившее старое индейское. Он – волна, падающая с вершин Итиубы, умножающая энергию потока в узких ущельях и стремительно несущаяся по оврагам и между гор к Жеремоабу.
Мы видели, как окружающая природа подражает брутальному климату, превращая ландшафт в сухую поверхность, лишенную богатства горных хребтов, столовых гор и плоскогорий, – делая из него нечто среднее, беспорядочную смесь из различных природных условий: равнины, которые при ближайшем рассмотрении оказываются грядой испещренных гротами горок; холмики, которые окружены настолько глубокими долинами, что кажутся высокими горами, находясь в нескольких десятках метров над поверхностью земли; нагорья, которые при переходе через них обнаруживают хаотические провалы острых ущелий. Нет больше красивого эффекта медленной денудации – изящных уступов, ровных горизонтов и широчайших полей, что придают природным картинам изумительное величие перспективы, в которых небо и земля сливаются в далекой и удивительной диффузии цветов…
Между тем неожиданное зрелище ожидает путника, который, пройдя по этой дороге, усыпанной обломками землетрясений, поднимается по взгорьям близ Канудуса.
С вершины Фавелы
Он восходит на вершину Фавелы. Обводит взглядом пространство, чтобы сразу охватить весь земной простор. И не видит ничего, что было бы ему знакомо. Перед ним – противоположность того, что он видел. Те же самые элементы рельефа, та же самая вздыбившаяся земля, одетая в лохмотья валунов и монотонных каатинг… Но сочетание этих неправильных, жестких черт: кривые морщины ущелий, узлы утесов, гроты перевалов – создает совершенно новый вид. Он почти понимает теперь, почему доверчивые жители сертанов с наивным воображением верили, что «там будет небо»…
Внизу впереди на той же неровной почве возвышался Канудус. Но при наблюдении с этой точки, через призму расстояния, которое сглаживает очертания и затупляет углы, все бесчисленные горки и скалы отходили на второй план, создавая иллюзию большой волнистой равнины.
А вокруг – величественный эллипс горных цепей…
На северо-востоке простой и мешковатый профиль Канабравы; чуть ближе и выше более неприступная Посу-ди-Сима; на востоке седловины и контрфорсы Кокоробо; на юге прямые гребни Кайпана; к западу убегают отроги Камбайю; а к северу беспокойная гряда Кайпана – все они соединяются, постепенно разворачиваясь громадной кривой.
Видя вдалеке, почти на том же уровне, эти заслоняющие горизонт величавые хребты, наблюдатель испытывает воодушевление, как будто бы он стоит на высоко поднятом плато, на несравненном па́рамо*, что лежит посреди гор.
Внизу, на морщинистой равнине, неразличимые маленькие петляющие ручейки…
Наблюдатель различает только один из них – Ваза-Баррис. Он переходит его извивающееся русло. И видит в одном из изгибов спрятавшуюся в холмах низменность шире прочих. Она вся усеяна бесчисленными крышами, огромным скопищем лачуг…
Глава III
Климат
Из таковых наблюдений следует, что необычайный характер тамошней местности определяется в равной степени геологическими и топографическими свойствами вкупе с прочими физическими факторами, причем из всех из них не представляется возможным выделить наиважнейший.
С одной стороны, топография испытывает сильное влияние заданных изначально условий; с другой, она же приводит к их дальнейшему усугублению; таким образом, они постоянно взаимно влияют друг на друга. Этот замкнутый круг вечного противостояния и определяет мезологическое* величие ландшафта. Всех его аспектов нам еще не под силу описать: слишком мало имеется наблюдений, и мы вынуждены собирать сведения по крохам.
Бывавшие в этой удаленной местности ученые мужи и первооткрыватели не рисковали еще задержаться здесь достаточно, чтобы составить ее описание. Марциус наведался сюда исследовать метеорит из Бендего́*; факт, известный европейским академиям с 1810 года благодаря стараниям Ф. Морнея* и Волластона*. Тем не менее, пробиваясь через дикую местность, названную им desertus australis[10], он едва обратил внимание на удивительную флору, которой дал тревожное латинское название sylva horrida[11]. Те, кто заходил сюда до него и после, спасались, измученные зноем, одними и теми же быстрыми путями бегства. Весьма вероятно, что подобный сертан, до сих пор избегаемый и неизведанный, останется таковым еще долгое время.
Изложим ниже скромные наблюдения. Наш путь через эту местность пришелся на начало жаркого лета, и по этой причине мы наблюдали ее в самую жестокую пору. Наши записки суть не более чем отдельные впечатления, и на их научную достоверность негативно повлияли условия наблюдений, не способствовавшие ясности мышления, которое и без того было сковано вызванными войной[12] эмоциями. Более того, показания единственных имевшихся у нас в распоряжении измерительных приборов, термометра и анероида[13], неспособны дать даже скромное представление о климате, который резко меняется при малейшем изменении ландшафта, из-за чего два пограничных района могут быть совершенно не похожи между собой. Например, климат в Монти-Санту, который выше Кеймадаса, казалось бы, должен (из-за своего промежуточного положения) проявлять характеристики климата двух мест, с которыми он граничит на севере, совершенно отличен от них. Близость горных массивов обеспечивает ему постоянство, как будто создавая посреди континента островок морского климата: тут незначительные колебания температуры, совершенно прозрачное и неизменно чистое небо, удивительно стабильная смена ветров – юго-восточный зимою и северо-восточный летом. Но эта местность невелика; путник покинет ее за сутки независимо от направления пути. Если он направится на север, там ожидает его разительная перемена: температура резко возрастает; синева неба становится плотнее; воздух наливается тяжестью; ветра дуют со всех направлений; а взгляду открываются бескрайние пустынные земли, тянущиеся до самого горизонта. При этом климат здесь крайне капризен: уже в октябре дают о себе знать сильнейшие перепады температуры – от 35º днем в тени до ночных холодов.
С началом лета такие «качели» лишь усиливаются. Одновременно растут и максимумы, и минимумы температур, пока, наконец, разгар засушливого сезона не станет мучительной чередой знойных дней и холодных ночей.
Обнаженная земля, на которой без устали сражаются между собой испаряющая и поглощающая функции составляющих ее материалов, одновременно и накапливает солнечный жар, и избавляется от него, успевая за сутки и накалиться, и заледенеть. Она поглощает ранящие ее лучи солнца, умножает их, и отражает, и искажает; вершины холмов и усеянные оврагами долины создают резонансную камеру, доводя до белого каления искорки песчаника; у самой поверхности земли воздух становится горячим маревом, в котором можно различить все цвета спектра; нестерпимо яркий день ослепляет безмолвную природу, неспособную поддержать жизнь в неподвижной, агонизирующей, утратившей всю листву флоре.
Внезапно, без закатной прелюдии, наступает ночь: тьма как будто одним скачком явилась сюда, перепрыгнув через узкую каемку заката. И весь зной растворяется в пространстве, температура стремительно, головокружительно падает…
Бывает и более бурный вариант. Северо-восточный ветер в вечернюю пору пригоняет пухлые кучевые облака, парящие над обжигающим песком. Солнце пропадает с неба, а ртутный столб стоит неподвижно или – что случается чаще – растет. Ночь наполняется огнем; земля излучает жар, подобно черному солнцу; тело болезненно ощущает невидимые искры; но все эти испарения возвращаются обратно, отраженные щитом туч. Давление падает, как перед бурей; в такие бесконечные ночи, когда весь извергнутый землею жар застывает над ее поверхностью, становится почти невыносимо дышать.
По объяснимой причине, таких ночей не бывает во время пароксизмов летней засухи, когда палящие дни сменяются холодными ночами, делая еще невыносимее жизнь бедных жителей сертана.
Подражая капризным силам, месящим землю, ветра здесь порывистые, непослушные, бунтующие. В те месяцы, в которые сила их нарастает, везде видны приметы того, что они дуют с северо-востока.
Затем ветра оставляют местность в покое на долгие месяцы; воцаряется тяжелый штиль, когда воздух неподвижным спудом давит на ослепительный покой раскаленных дней. В это время восходящие потоки горячего пара незаметно иссушают землю, лишая ее остатков влаги; пока продолжается эта печальная прелюдия засухи, уровень сухости атмосферы достигает необыкновенных показателей.
Необычайные гигрометры
Мы не измеряли ее классическим образом – ее показывали нам необычайные и удивительные гигрометры.
Однажды поздним сентябрем[14], спасаясь на окраине Канудуса от мерной канонады, состоявшей из отделенных промежутками глухих выстрелов, мы взошли на склон, с которого увидели амфитеатр холмов, неровными рядами спускавшихся к долине. Холмы были усеяны густозелеными скоплениями маленьких кустов ико́*, в листве которых то и дело виднелись пушистые яркие цветки; всё это придавало местности вид заброшенного старого сада. Среди них расположилось одинокое дерево – высокая киша́ба*, спутник скудной растительности.
Заходящее солнце раскатывало по земле свою длинную тень, в которой, раскинув руки и обратив лик в небеса, отдыхал солдат.
Его отдых… длился три месяца.
Он погиб 18 июля в бою. Разбитый приклад «манлихера», сбитые на бок ремень и фуражка, разодранная униформа свидетельствовали о том, что он пал в рукопашном сражении с сильным противником. Несомненно, он был повергнут на землю жестоким ударом, оставившим черную гематому на лбу. А когда через несколько дней пришли хоронить погибших, его никто не заметил. Поэтому он избежал братской могилы глубиною меньше локтя, куда бросали павших на поле битвы солдат, чтобы они в последний раз встали в строй. Судьба, забравшая его от домашнего очага, лишив того защиты, сделала ему последний подарок, освободив от непристойного лежания вповалку в отвратительной могиле; три месяца назад она оставила его на этом месте лежать с широко раскинутыми руками и лицом, обращенным в небеса – к горячему солнцу, к ясному месяцу, к мерцающим звездам…
Разложение не коснулось его. Он только увял. На его мумифицированном теле сохранились черты лица, так что, глядя на него, сложно было не видеть уставшего бойца, набирающегося сил от спокойного сна в тени благодатного дерева. Черви – наигнуснейшие преобразователи материи, что раскладывают ее на составляющие, – не нарушили целостности его тканей. Он возвращался в круговорот жизни, не подвергнувшись отвратительному разложению, он просто незаметно иссыхал. Вот он – прибор, беспристрастно, но наглядно демонстрирующий сухость здешнего климата.
Кони, погибшие в тот день, казались чучелами из музейной коллекции: удлиненная тонкая шея, усохшие ноги и жесткие кости на сморщившемся остове.
Один из них, на подходе к канудусскому лагерю, был особенно примечательным. Его седоком был смельчак, алфе́рес* Вандерлей; конь разделил судьбу со своим всадником. Но прежде чем погибнуть, уже раненный конь с предсмертным ржанием карабкался по крутому утесу, пока не застыл, зажатый между скалами. Он даже не успел пасть: его передние ноги прочно задержались на каменной плите… Так он и остался стоять – фантастическое животное, взбирающееся по скалистой лестнице и согнутое в последнем усилии донести парализованную ношу, совсем как живое, особенно под шквальными порывами северо-восточного ветра, который колышет длинную волнистую гриву…
Когда эти внезапные порывы соединялись с восходящими потоками воздуха, образуя бурные вихри и миниатюрные циклоны, еще сильнее ощущалась крайняя сухость обжигающего воздуха: каждая песчинка раскаленной и жесткой почвы излучала во все стороны жар земли, как натопленная печь.
Кроме этого, продолжительные затишья приносили с собою необычайные оптические обманы.
Если в палящий полдень, когда застывшая атмосфера обездвиживала всю природу, встать на вершине Фавелы и смотреть на далекие склоны, то земли не было видно.
Завороженный взгляд терялся в пелене неравно нагретых слоев воздуха, как будто на его пути стояла огромная глухая призма, и оторванные от земли горы казались парящими в воздухе. Тогда к северу от Канабравы, где раскинулась громадная гладь широких равнин, можно было увидеть головокружительное марево, необыкновенное движение далеких волн – удивительный мираж, иллюзию далекого, бескрайнего, расцвеченного радужными бликами моря, на которое падает, то отражаясь, то вновь возвращаясь, ослепительно яркий свет…
Глава IV
Засухи
Канудусский сертан – эталон физиографии сертанов нашего севера. В нем отражены все прочие сертаны с их основными усредненными показателями. Канудус – своего рода общий центр всех сертанов.
Действительно, из-за изгиба полуострова, увенчанного мысом Сан-Роки, соседями «через сертан» оказываются шесть штатов: Сержипи, Алагоас, Пернамбуку, Параиба, Сеара и Пиауи или соприкасаются с сертаном, или недалеко от него отстоят.
Таким образом, вполне естественно, что царящий в них климат проявляется в Канудусе с тою же силой, особенно в самом резком своем проявлении: одно его название уже приводит в священный ужас самых стойких местных жителей – «засуха».
Мы не будем пространно рассуждать об этом феномене – пусть над его происхождением ломают свои головы ученые мужи, перебирая бесчисленные сложные и трудноуловимые факторы. Тем не менее, приведем некоторые неумолимые данные, которые скажут об этом жестоком биче севера.

