Сертаны. Война в Канудусе
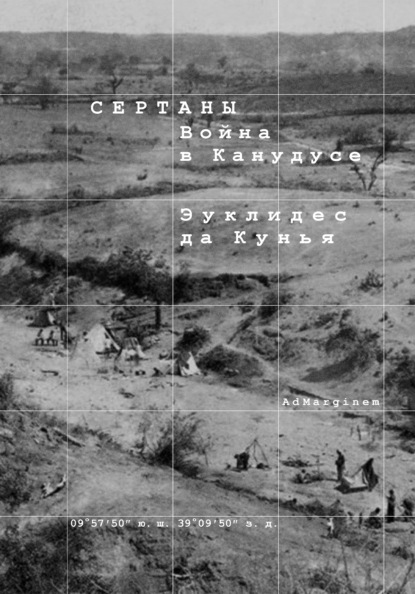
- -
- 100%
- +
Действительно, циклы засухи – а со строго формальной точки зрения засуха циклична – следуют столь четкому ритму, что кажутся следствием некоего еще не открытого закона природы.
Впервые это обнаружил сенатор Томас Помпеу[15]. Он наглядно показал, что поры начала засухи в прошлом веке и в нынешнем[16] так удивительно совпадают друг с другом, что легкие расхождения говорят скорее о неточности наблюдений или об их искажении в устной традиции.
Так или иначе, простого наблюдения вполне хватит, чтобы разглядеть совпадение, частота повторений которого исключает любую случайность.
Возьмем лишь наиболее заметные кризисы: засухи XVIII века, 1710–1711, 1723–1727, 1736–1737, 1744–1745, 1777–1778 годов совпадают с засухами века текущего, 1808–1809, 1824–1825, 1835–1837, 1844–1845, 1877–1879.
Это неизменное повторение, будто перенесенное на кальку, подчеркивается также совпадением продолжительных спокойных периодов, хранящих землю от разрушения.
Действительно, если в прошлом веке крупнейший подобный промежуток наблюдался с 1745 по 1777 год, составив 32 года, в нашем веке повторился такой же период, причем, что особенно примечательно, с полным совпадением дат: 1845–1877.
При дальнейшем пристальном изучении этого явления мы обнаружим новые четкие данные, позволяющие приоткрыть завесу над загадкой природы. Таким образом, мы наблюдаем редко нарушаемый ритм прихода бедствия, причем интервалы почти всегда составляют девять или двенадцать лет; это дает возможность делать надежные прогнозы.
Тем не менее, несмотря на удивительную простоту непосредственных наблюдений, проблема, которую можно свести к несложной арифметической формуле, остается нерешенной.
Гипотезы о возникновении засухи
Впечатлившись столь редко прерываемой закономерностью, несколько насильно втиснутой им в период из одиннадцати лет, один натуралист, барон ди Капане́ма*, задумал искать ее далекий источник в сферах небесных, славящихся неизменностью своих циклов. В итоге он нашел полное соответствие земной засухе в регулярном появлении и исчезновении пятен на солнечной фотосфере.
Действительно, интенсивность этих точек, порою превосходящих размерами Землю, темнеющих в окружении ярких солнечных факелов и медленно движущихся в соответствии с вектором вращения Солнца, периодична, и от максимума до минимума интенсивности проходит от девяти до двенадцати лет. А поскольку гений Гершеля* открыл их значительную роль в дозировке посылаемого к Земле тепла, эта корреляция сразу подтверждается геометрическими и физическими данными, складывающимися в единый эффект.
Оставалось доказать, что минимальная интенсивность пятен – щитов, защищающих маленькую планету от излучения великой звезды, – совпадает с периодами засухи, тем самым уравняв периодичность первой и второй.
Это доказательство барону не удалось: несмотря на всю привлекательность его теории, даты летних пароксизмов на нашем севере редко совпадают с пароксизмами Солнца.
Такая неудача тем не менее говорит не о неверности подхода, вызванного столь явными обстоятельствами, но, скорее, об ограниченности выбранной цели. Ведь подобный вопрос со всей сложностью, присущей конкретным фактам, связан в основном с вторичными факторами, более близкими нам и более мощными; а они, будучи неразрывно связанными с природой почвы и ее географическим расположением, будут окончательно систематизированы лишь тогда, когда многочисленные наблюдения позволят определить ключевые факторы климата в зоне сертанов.
Как бы то ни было, тяжелый климат северных штатов есть результат воздействия неупорядоченных и изменчивых внешних сил, а на те влияют как пертурбации местного масштаба (связанные с конкретной местностью), так и более общие факторы, продиктованные географическими характеристиками. От этого зависят и воздушные потоки, делающие этот климат неравномерным и переменчивым.
Во многом – возможно, в основном – его определяет северо-восточный муссон, порожденный сильными аспирационными потоками внутренних плоскогорий, идущих вплоть до Мату-Гроссу, где, как известно, летом давление падает очень низко. Вызываемый ими могучий северо-восточный ветер с декабря по март[17] спускается сюда с северных склонов. Ландшафт особенно благоволит ему: голые вершины, над которыми он мчится, испаряют влагу, повышая его точку насыщения и лишая себя дождей. Возвышенности гонят его дальше, чтобы он нес всю воду, собранную по дороге от моря, в нетронутые глубины континента, к истокам великих рек.
Действительно, орографическое расположение сертанов, за редкими исключениями, благоприятствует такому маршруту. Горные цепи, выстроенные к северо-востоку, согласно превалирующему муссону, создают коридор и не препятствуют ветру, подставляя ему холмы, преграды, высоты, на которых он бы охладился и излил свою конденсировавшуюся влагу в дождях.
Итак, одна из причин засухи заключается в топографии.
Несчастным северным землям не хватает высокого горного хребта, который, идя наперерез этому ветру, производил бы эффект dynamic colding[18].
Такую гипотезу поясняет другое природное явление более высокого порядка.
Так, засуха всегда длится с 12 декабря по 19 марта, что давно известно каждому жителю сертана. Нет ни одного случая, чтобы засуха закончилась вне этого периода: если даты пройдены, она будет длиться весь год, вплоть до начала нового цикла. Памятуя же о том, что именно в такой временной интервал протяженная зона штилей, медленно перемещающаяся у экватора, оказывается в зените этих штатов, расширяясь до окраин Баии, не считать ли подобную зону идеальной горой, что расположена с востока на запад и на миг изменяет неблагоприятное орографическое расположение, препятствуя муссону и заставляя его остановиться, вобрать восходящие потоки влажного воздуха с последующим охлаждением и немедленным образованием конденсата и выпадением осадков, которые в это время потопом выливаются на сертаны?
Описанный феномен показывает нам, сколь далекие друг от друга факторы могут оказывать влияние на вопрос, который интересует нас по двум причинам: во-первых, из-за большой научной значимости, во-вторых, из-за его глубочайшего влияния на судьбу нашей обширной страны. Это обстоятельство отодвигает на второй план значение переоцененных на сегодняшний день пассатов; кроме того, оно косвенно подтверждается и интуицией самих жителей сертана, для которых северо-восточный ветер – они выразительно называют его ветром засухи – равнозначен жесточайшему бедствию.
Благоприятный период приходит внезапно.
За два-три года – например, 1877–1879, – пока солнце нещадно жарит обнаженные вершины, интенсивность его излучения неизбежно приводит к последствиям. Везде значительно падает атмосферное давление. Становится более четкой граница между восходящими потоками сухого воздуха и воздушными массами, идущими с побережья. Столкновение этих областей вызывает жестокие тайфуны, гром и молнии, весь небосвод мгновенно затягивает тучами, и вскоре над раскаленными пустынями проливаются неудержимые дожди.
Так заявляет о себе граница восходящих потоков, на которую наталкивается стремительный бег северо-восточного ветра.
Многочисленные свидетели утверждают, что первые дождевые струи с неба не успевают коснуться земли. Они испаряются в восходящих слоях горячего воздуха и возвращаются обратно в облака, чтобы там вновь превратиться в конденсат, пролиться на землю и снова вернуться; так происходит до первого контакта с почвой, которая еще не поддается увлажнению, отсылая капли обратно в небо с еще бо́льшей скоростью, как если бы вода попала на раскаленный металл; так продолжается еще какое-то время этот непрерывный и скорый обмен; только теперь, наконец, струи воды примутся стекать по камням, первые потоки потекут по склонам, заполняя овраги, образуя быстрые ручьи и беспорядочные бешеные реки – в их водах мелькают кроны вырванных с корнем деревьев, их волны угрожающе и могуче шумят, их перекаты стремительны и темны…
Если за внезапной атакой последуют обычные дожди, сертаны изменяются, оживают. Нередко дожди проходят быстро, с циклонами. Быстрый естественный водоотвод и испарение влаги, только-только украсившей землю, снова приводят сертан в заброшенный и иссушенный вид. А ветры, проходя через горячий воздух, удваивают силу испарения – и так постепенно, день за днем из земли уходит скудная влага, и неизменный цикл засух повторяется вновь…
Каатинги
Тогда идти по тропам сертана становится еще невыносимее, чем по голой степи.
В степи путешественник, по крайней мере, может утешаться видом широкого горизонта и бескрайних равнин.
А каатинга на него давит; застит ему глаза; ранит его и туманит; нанизывает его на острые камни и ошеломляет; отталкивает его колючими листьями, шипами, пиками веток; показывает ему на лиги и лиги вперед один и тот же печальный пейзаж: деревья без листьев, с иссушенными и изломанными ветвями, изогнутыми, согбенными, сухо указующими в пространство или судорожно хватающимися за землю. Агонизирующая флора напоминает пыточную камеру…
Хотя здесь отсутствуют унылые пустынные виды – кривые мимозы или колючий молочай на увядшей траве – и хотя вроде бы тут полно разнообразных растений, деревья, если смотреть на них в целом, кажутся представителями одного немногочисленного семейства, если не одного только вида; различаются между собой они только размером, вид имеют одинаково умирающий, ствол практически отсутствует, побеги топорщатся. Дело в том, что по вполне объяснимой причине – адаптация к неблагоприятным условиям – деревья, которые бывают так друг на друга не похожи в лесу, здесь следуют одной и той же неизменной моде. Они меняются и в своей неспешной метаморфозе стремятся к очень ограниченному количеству типов, наиболее способных к сопротивлению.
А отчаянное сопротивление здесь необходимо.
Борьба за жизнь, которая в лесах выглядит как упрямое стремление к свету, заставляющее опутанные гибкими и сильными лианами кустарники бежать от тени и вытягиваться вверх, чтобы заполучить больше солнечных лучей, здесь выглядит совершенно иначе, оригинальнее и внушительнее. Солнце – враг, которого нужно избежать, обмануть или покорить. В этих попытках умирающая флора, как мы покажем ниже, прячет свои стебли в землю. А земля и сама тверда, как камень, ее не только спалило солнце, но и иссушили атмосферные перепады, низшие пласты высосали из нее все соки. И, находясь между двух огней – между раскаленным воздухом и иссушенной землей, более стойкие представители флоры имеют здесь самый ненормальный облик, покрытый шрамами от этой тихой войны.
Бобовые, которые в иных местах вымахивают ввысь, тут напоминают карликов. При этом у них больше листьев – таким образом они расширяют область соприкосновения с воздухом, чтобы взять из него как можно больше нужных элементов. Стержневой корень у них почти не развит, чтобы не биться о каменную почву; вместо этого у них есть развитая сеть придаточных корешков, имеющих клубнеподобные уплотнения, где хранится сок. Листья у них меньше размером. Прочные, как резак, они надежно закреплены на оконечности ветки, чтобы уменьшить площадь испарения. Свои плоды, порою жесткие, как стробилы*, они покрывают защитным покровом. Когда стручок открывается вдоль идеального шва, плод выскакивает, как вытолкнутый стальной пружиной. Удивительный механизм распространения семян методом разбрасывания! И легкий аромат цветов[19] всех этих растений без единого исключения содержит в себе неуловимые вещества, которые холодными ночами обволакивают их невидимым чудесным покрывалом, спасая от перепадов температуры.
Так дерево защищается от жесткого климата.
Над сертанами поднимается марево сухого зноя; горячие ветры несут бесплодие; раскаленная почва каменеет и покрывается трещинами; в жаркой пустыне беснуется северо-восточный ветер; и каатинга покрывает землю колючими ветвями, словно вретищем… Но растение пребывает в спячке, оно живет, хотя его метаболизм замедлен, оно питается запасами, которое хранит в своих тайниках; и так оно переживает зной, чтобы преобразиться с приходом весенней погоды[20].
Некоторые растения, что живут на более благоприятных землях, научились еще лучше обманывать непогоду.
В капа́нах* – «лесных островках» – можно заметить скопления кустиков высотой около метра; такие же кустики встречаются поодиночке в зарослях травы. У них широкие и толстые, блестящие листья; они разбавляют общее уныние ноткой радостного цветения. Это карликовый кешью – типичный Аnacardium humilis засушливых холмов, который наши коренные народы называют кажу. Если эти странные растения подкопать, обнаружится их удивительно глубокая корневая система. Выкорчевать их не получится, как ни старайся. Чем глубже, тем корень прочнее. В какой-то момент он расходится на две ветви, чтобы после, под землей, соединиться в один прочный корень.
Но это не корни – это ветви. А маленькие кустики, то рассыпанные по траве, то собравшиеся в одну кучку, которая порою бывает весьма немаленькой, суть крона громадного дерева, ствол которого целиком находится под землей.
Таким образом растение как будто прячется от палящей жары, свирепого солнца, едких дождей, пыток ветра, скрываясь в земле, как в панцире, поднимая над ней только самые высокие побеги своей величественной кроны.
Не все растения умеют так; им приходится справляться по-своему.
Бромелия удерживает в своем околоцветнике воду из бурных потоков, несущихся по оврагам или водопадом спускающихся между сланцевых скал. В разгар лета куст бромелии – источник кристально чистой воды для мучимого жаждой крестьянина. Этому методу, идеально подходящему для бесплодных земель, подражают светло-зеленые кароа́* с высокими триумфальными цветами, гравата́* и дикие ананасы[21], образующие непроницаемую живую изгородь. Их гладкие и блестящие мечевидные листья, как у большинства растений сертана, конденсируют приносимую ветром ценную влагу, спасая растение от смертельной опасности, связанной с сильным испарением и истощением.
Есть и другие способы, отличные от описанных и связанные с использованием других приспособлений, но столь же эффективные.
Произрастающие повсюду нопале́и* и кактусы относятся, по Сент-Илеру*, к категории растительных источников. Это классические представители пустынной флоры, они обладают бо́льшей сопротивляемостью чем прочие растения, и когда вокруг них не остается ни одного дерева, они продолжают жить как ни в чем не бывало – а может быть, даже лучше. Они приспособились к варварским условиям; они ненавидят умеренный климат, в котором чахнут и засыхают. А раскаленная атмосфера как будто способствует круговороту живительного сока в их пухлых кладодиях*.
Фаве́лы*, пока еще не получившие научного названия[22], неизвестные ученым мужам, знакомые одним лишь местным жителям, вполне могут быть в будущем отнесены к роду Cauterium[23]. Их мохнатые листья – прекрасный инструмент конденсации, впитывания и защиты. С одной стороны, ночью температура их эпидермы* опускается ниже температуры окружающего воздуха, выжимая из его сухости скудную росу; с другой стороны, прикасающаяся к нему рука чувствует невыносимый жар.
Но не все виды достаточно хорошо вооружены, чтобы обеспечить себе победу над климатом. Такие растения выходят из положения интереснее всего: они объединяются в крепком объятии, становясь «социальными» растениями. Раз нельзя защищаться поодиночке, они создают единый строй, сливаются, действуют сообща. Так поступают все цезальпиниевые и все типичные представители флоры каатинги, что в совокупности составляют шестьдесят процентов ее растительности. так делают горный розмарин и сенна двуплодная, пустотелые кустарниковые гелиотропы с разноцветными и белыми колосками, которым суждено получить имя самого легендарного поселения этих мест[24]…
Гумбольдт* не включил их в перечень бразильских социальных растений; возможно, что в других климатических условиях они растут раздельно. Здесь они растут сообща. И в солидарности со своими корнями, в подземелье, в тесноте, они удерживают воду, удерживают рассыпающуюся землю, чтобы тяжелейшим усилием образовать рыхлую почву, в которой они будут рождать потомство, побеждая запутанной капиллярной сетью множества корешков ненасытное сосание почвы и песка. И они живут. Именно живут – их подвиг говорит о том, что их жизнь есть нечто бо́льшее, чем пассивное растительное существование…
Жуазейру
Таким же образом ведет себя и жуазе́йру*. Это растение редко расстается со своими ярко-зелеными листьями, умеющими устоять перед убийственными потоками света. Идут друг за другом жаркие месяцы и годы, иссушенная земля становится совершенно беспомощной. Но в эти жестокие времена, когда солнце печет невыносимо, а сильные ветры раздувают пожары, в которых сгорают сухие и ослабевшие ветви, пеплом осыпаясь на унылый пейзаж, жуазейру раскидывает свои сочные листья, цветет в любое время года, усеивая пустыню радостно-золотыми цветами, улыбаясь на фоне всеобщего бурого опустошения, подобно зеленому оазису.
А стихия всё пытается раздеть его догола. Уже давно высохли до дна все овраги и ямы, а затвердевшее русло ливневых ручейков обнажило сургучную печать старых бычьих следов. Сертан стал совершенно непригоден для жизни.
Тогда лишь тонкие молчаливые цере́усы горделиво взирают на мертвую природу, приподнимаясь на круглых стволах, разделенных на равновысокие многогранные колонны: идеальная симметрия громадных канделябров. А когда на пустынные края падает стремительный закат, они демонстрируют свои большие красные плоды, становясь в вечернем полумраке похожими на гигантские зажженные свечи, вертикально воткнутые прямо в холмы…
Вот она – причудливая флора самого разгара засушливого периода.
Мандакару́* (Сereus jaramacaru) достигают удивительной высоты. Они часто растут поодиночке, тут и там выглядывая над хаотической растительностью. Они горделиво взирают на чахнущую флору, необыкновенным ростом притягивая взгляд неопытного путника. Прямые, правильные стебли приносят отдых взгляду, измученному видом усталых, иссушенных ветвей и листьев. Но через какое-то время они становятся давящим наваждением, оставляя на всём отпечаток неизбывной тоски – вездесущие, неизменные, неразличимые между собой, равновысокие, равноудаленные друг от друга, равноупорядоченные по всей пустыне.
Перуанский цереус, или ши́ки-ши́ки (Сactus peruvianus[25]) меньше размером, а его тело разделено на усеянные колючками, извивающиеся по земле ветви, увенчанные белоснежными цветами. Эти растения любят сухой и жаркий климат, они главные обитатели обжигающих песчаных пустынь, их ложе – раскаленные солнцем гранитные плиты.
Их извечные соседи по этим местам, которых избегают даже орхидеи[26], – уродливые и чудовищные мелокактусы, называемые «головою монаха»[27]. Его толстые зеленые дольки, сшитые между собою глубокими швами, сходятся на макушке в единственный алый цветок. Необъяснимо их возникновение прямо на голых камнях; а видом, формой, размерами и расположением они поистине схожи с окровавленными отрезанными головами, разбросанными тут и там в трагическом беспорядке. Дело в том, что крошечная трещинка в скалистой породе открыла дорогу их длинным корням, которые капиллярным путем несут остатки влаги в подземную кладовую, куда не достанет страшное испарение.
Далее члены обширного семейства постепенно уменьшаются в размерах: вот скромные кипа́*, укрытые колючим щитом и прижимающиеся к земле, как травяной ковер; гибкие и юркие рипса́лисы, чьи ветви извиваются зеленой змеей; хрупкие и бледные эпифитные* кактусы, по стволу пальмы оурикури́ убегающие от негостеприимной почвы в спасительную тень кроны.
Куда ни посмотришь, повсюду новые и новые разновидности. Вот «адская пальматория» – опунция с миниатюрными ладонями, ощетинившаяся дьявольскими шипами, усеянная пасущимися на ней алыми жучками-кошенилями и бешено-яркими цветами, которые оттеняют торжественную тоску окружающего ландшафта…
Ничто другое не отвлекает путника, в ясный день пересекающего эти унылые места, где у деревьев нет ни листвы, ни цветов. Вся флора как будто опрокинулась и смешалась в нераздельную смесь. Вот она, катанду́ва[28] – «больной лес» на местном наречии, – что падает на жестокое ложе из шипов!
На какой ярус ни взобраться, куда ни направить взоры – везде, повсюду один и тот же унылый пейзаж, состоящий из агонизирующей, больной и бесформенной, истощенной растительности…
Вот что Марциус называл sylva oestu aphylla, sylva horrida[29]: голая пустота, зияющая на лоне тропической природы.
Тогда начинаешь понимать, как был прав в своем парадоксальном суждении Огюстен де Сент-Илер*: «Там вся меланхолия мировых зим непрерывно сосуществует с палящим солнцем и летним зноем!»
Безжалостный свет длинных дней пылает над неподвижною землей, не приводя ее в чувство. Мерцают, как льдины, рассыпанные по беспорядочно лежащим известняковым скалам вкрапления кварца; белесые тилла́ндсии раскачиваются на сухих кончиках ветвей застывших деревьев, как растерзанные хлопья снега; от всего этого спящая растительность напоминает ледяную пустыню…
Гроза
А мартовскими вечерами, когда ночь торопится прогнать закат, на небе впервые начинают живо переговариваться звезды.
Небо до самого горизонта затягивают черные горы туч.
Неспешно они поднимаются и пухнут, по их высокому брюху бродят огромные ленивые вихри; тем временем ветры носятся по равнинам, сотрясая деревья и склоняя их к земле.
Небосвод хмурится, и вот уже он мечет одну за одной стремительные молнии, рассекая острыми порезами черную ткань грозы. Не смолкает раскатистый громовой рык. На поверхность земли падают первые размеренные тяжелые капли, превращаясь в беспощадный потоп…
Возрождение флоры
И путник, возвращающийся обратно тем же путем, изумлен: куда же делась пустыня?
Плотный ковер из амари́ллисов* знаменует триумфальное возвращение тропической флоры.
Круглые мулунгу́* окружают сверкающие канавы; высокие караи́бы* и барау́ны* укрывают тенью берега полноводных ручьев; над зелеными тропами раскинули свои ветви могучие маризе́йру*; в уютных гротах расположились мелколистные киша́бы*, чьи плоды напоминают поделки из оникса; ико́* еще ярче, еще сочнее зеленеют на склонах, а над ними беспечно шелестят оурикури; весело перекатываются по всему пейзажу, поднимаясь из долин на холмы, с холмов спускаясь в долины, гривастые кусты горного розмарина*; амбура́ны* очищают богатой листвою воздух и наполняют его ароматом; а во всём этом всеобщем возрождении солирует невысокий, но грациозный момби́н*, чьи многочисленные ветви расходятся лучами по кругу в двух метрах над землей.
Момбин
Это священное дерево сертана, верный спутник кратких и быстротечных счастливых пастушеских часов и долгих горьких дней. Он – самый поразительный пример адаптации во всей местной флоре. Когда-то оно было высоким и могучим, но чередование летнего зноя и зимних гроз заставило его уменьшиться в размерах, чтобы выживать, бросая вызов длительным засухам, и существовать в неблагоприятную пору года, удерживая в себе жизненную энергию, что в изобилии копилась в корнях, пока была такая возможность.
Этими запасами оно делится с человеком. Если бы не момбин, бесплодный сертан, в котором даже карнау́бы* днем с огнем не сыщешь (в сертане по соседству со штатом Сеара они уже встречаются тут и там), был необитаем. Плоды момбина для несчастных обитателей этих мест – то же самое, что для населяющих льяносы гараунов* плоды маврикиевой пальмы*.
Момбин утоляет их голод и жажду. Он приветливо распахивает перед ними дружескую сень, а его сплетенные ветви как будто специально созданы, чтобы вешать удобный гамак. С наступлением счастливых времен он дает плоды, чей изысканный вкус как нельзя лучше подходит для приготовления традиционной умбуза́ды*.
Даже в дни, когда пастбища покрыты свежей травой, домашний скот любит лакомиться кисловатым соком его листьев. Тогда он выпрямляется, расправив круглую крону параллельно земле, щегольски подбоченясь, как будто с ним только что поработали лучшие садовники. Крона его тогда напоминает идеальную полусферу; до нее могут добраться только самые высокие быки. Момбин властвует над флорой сертана в счастливое время, подобно тому как меланхоличный цереус выделяется во время летних волн засухи.
Юрема
Юре́ма* – излюбленное растение местных жителей-кабоклу*. Они делают из нее бесценный упоительный напиток, восстанавливающий силы после долгих переходов, моментально снимая усталость. Мелкие листики юремы сплетаются в волшебное ограждение вокруг редких маризейру – таинственные деревья, предсказывающие дожди, долгожданные «зеленые времена» и «худую пору»[30], – защищая их, когда в разгар жестокой засухи на иссушенном стволе появляются капельки воды; зеленеют анжи́ку*; распускаются кусты жуа́, и цветут барауны, и аратику́ны украшают берега ручьев… Но среди этого великолепия и на вершинах, и на склонах холмов только момбины со своими расположившимися в листьях белоснежными цветами, переливающимися от бледно-зеленого до нежно-розового, более всего привлекают взгляд и составляют самый яркий акцент сияющего пейзажа.

