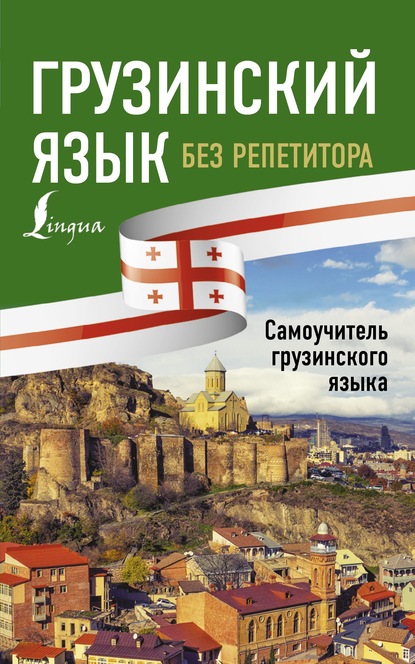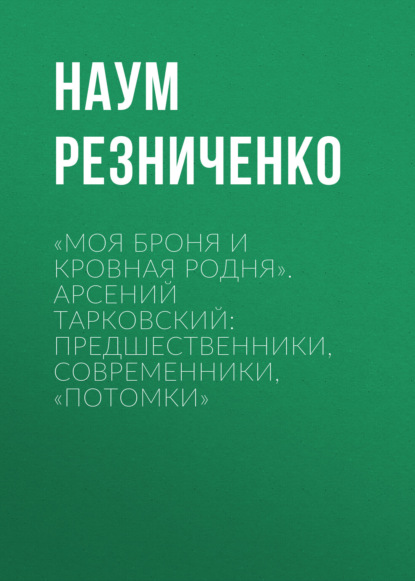- -
- 100%
- +
«Это ж надо! А чтобы со мной стало, если бы не этот „леший“ Коля. А что он тут делает, в таком болоте? Да еще с фотоаппаратом и своей рыбой. И с настоящим ружьем. Я теперь от него ни на шаг. И если он меня спасет, я ему… А как я его отблагодарю? Я заведу его к себе домой, покажу маме и папе, угощу его самым вкусным обедом и самым большим тортом. А вдруг он захочет чего-нибудь еще от меня?» – подумала она, одеваясь, глядя осторожно и с благодарностью на Николая, который уже сооружал из сухой травы, камыша и мелких сухих веток костерок.
– Сейчас вот костерок с дымом сделаю. Ты есть хочешь? – Не дожидаясь ответа, быстро разжег костер, набросал поверх сырых веток ольхи. Повалил пахучий сизый густой дым.
– Иди под ветер, под дым. Комары меньше жалить будут.
Она послушно стала под волну дыма, закашлялась и, слезясь, констатировала:
– Вот я сейчас и прокопчусь, как копченая рыба!
– Да нет. Копченую рыбу мы сейчас с тобой сами сделаем из того, что есть у меня в мешке. А под дымом стой, ничего – привыкнешь, а комары от тебя отвыкнут.
Он быстро выпотрошил и ополоснул в воде несколько линей, нанизал по длине на ивовые прутья, натер солью, обернул в два-три слоя лопухом каждую низку и, толстым концом воткнув пруты в землю, придвинул изготовленные «куклы» к пламени.
– Потом чай допьешь, амазонка. Сейчас перекусим, чем Бог послал. Я тебе на время обувь сделаю, потому что босиком ты уже больше ходить не сможешь по болоту и сучкам, шишкам в лесу. А мои сапоги тебе не подойдут никак, – и он, усмехнувшись, показал на свои «болотники», – если только на две ноги сразу…
Надрезав и оборвав кору с ивы длинными лентами, быстро переплетая их между собой, одновременно поворачивая «куклы» на костре и подкладывая сырые ветки, если костер сильно разгорался, Николай сплел нечто похожее на лапти.
– Вот сейчас надо из чего-то тебе онучи придумать, – призадумавшись, сказал он, поглядывая, что можно порвать: майку или оторвать колошины у своих трико.
– Вот, порви, – она протянула синюю мужскую рубашку, которая лежала невдалеке в траве.
– А чья это рубашка?
– Неважно. – Глаза ее стали строгими и даже злыми. – Рви и не жалей.
Спохватившись, что перешла на «ты», опустила глаза, задумалась, загрустила.
Сообразив, что этот разговор ей неприятен, Николай быстро разорвал рубашку, сделал оборки из рукавов, что-то наподобие носков, завернув и прикрепив пуговицами края.
– Ну, вот тебе лапти, амазонка. Иди сюда, будем примерять и крепить.
Наташа послушно подошла, села на предварительно разложенный пустой рюкзак, закатала брючину камуфляжа выше коленки и протянула ему ногу. Крякнув от смущения, он взял в ладони и стал рассматривать исколотую, исцарапанную и распухшую ногу.
– Подожди немного, – достал завернутый в газету кусочек сала, разрезал его ломтиками, растер у себя между ладонями и жирными руками стал растирать ей ступню, розовые пальчики, голень. Дойдя до колена, отдал ей в руки еще один кусочек:
– Бери и растирай сама там, где болит и исцарапано, искусано. Потом легче будет, а пока терпи.
Она послушно исполнила его указание, потом также они поступили со второй ногой. Натянув ей не ноги «носки», намотав поверх еще слой в виде портянки, Николай ловко обул ее в «болотоходы», закрепил лыковыми бечевками и еще раз, поверх, тряпочными оборками.
– Встань, пройдись. Как?
Она встала и скривилась, закусив губу.
– Больно, ой, как больно.
– Что болит, Наташа, где?
– Все ноги, как будто в колючей проволоке: и колет, и щиплет, и режет, и горит огнем.
– Ну ладно, не очень-то! Я тебя все равно не понесу, а до свадьбы заживет. Правда, хромоту уже не вылечишь!
– Какую хромоту? – насторожилась девушка.
– А ты что, не видишь, что ты хромаешь на обе ноги?
– Где это я хромаю! – она выпрямилась, попрыгала на месте на двух ногах, а потом на каждой поочередно.
– Ха, а говорила, что ножки болят. Видишь, как быстро все прошло. Садись, будем перекусывать, и больше не ной.
Листья лопухов, которыми поверх травы была обвязана рыба, уже обуглились снаружи, и сквозь разломы и трещины листьев показывалась кипящая пена, разносящая в воздухе аромат жареной рыбы. Еще немного подержав куклы над жаром, Николай снял их, быстро освободив от остатков травы и листьев. Нанизанная на палочки рыба, а это были лини, ароматно «дымилась». Николай подбросил олешника с листьями в костер – листья мгновенно скрутились, и серый дым повалил клубами, уносимый легким ветерком от ручья. Потом стали пробиваться язычки пламени – и дым вспыхнул. Опять набросав веток с листьями, Николай в горячем дыму стал прокапчивать линей и, не снимая с палочек, готовых, с корочкой от углей и запахом дыма, стал укладывать на газету.
– Вот наш с тобой обед, Наташка. Попробуй, может, понравится. Я-то уже давно так рыбу не жарил, но, думаю, это будет съедобно.
Порезал хлеб, добавил в ее стаканчик чаю из термоса, не глядя на нее, первым стал отламывать испекшиеся кусочки линя прямо со шкуркой и, поддерживая хлебной горбушкой, отправлять себе в рот. Молча они доели все, что было «на столе». Выпив свой чай, Наташа сама налила ему остатки из термоса и скромно подала. Молча же опять, что-то буркнув, вроде «спасибо», Коля со смаком выпил чай, закрыл термос, бросил его возле целлофанового мешка с рыбой. И тут взгляд его остановился на фотоаппарате. «Вот бы с такой девчонкой сфоткаться и показать друзьям. А еще если бы в обнимку», – подумал он и взглянул на Наташу. Она уловила этот взгляд, улыбнулась:
– Давай сфотографируемся с тобой, Коля. А ты мне потом фотографию подаришь, и я ее буду всем показывать и хвалить тебя. А можно я скажу, что ты мой друг, ну, понимаешь, мой парень, – она прямо и открыто посмотрела на него своими голубыми глазами.
Сконфузившись от того, что она угадала его мысли и, сделав вид, что делает ей одолжение, Николай встал, отмерял пять шагов от костра, зажал фотоаппарат «Зоркий-4» между рогатками ивы. Долго прицеливался на костер, взвел пружину автосъемки, попросил Наташу пересесть немного в сторону, нажал кнопку, подбежав к ней и присев на корточки, в нерешительности положил руку ей на плечо. Она взглянула на него, подвинулась поближе и улыбнулась. Тут щелкнул затвор, и замер рычаг автосъемки. А они, обнявшись, еще некоторое время сидели и молча смотрели в объектив фотоаппарата.
– Коля, я моргнула от дыма. Давай еще раз. А?
Николай нехотя снял руку с ее плеча, как-то спотыкаясь, пятясь, пошел к фотоаппарату и вновь завел автосъемку. Взглянул через объектив, увидел Наташу, которая, прикусив губу, смотрела в объектив немного задумчиво и даже встревоженно, как ему показалось.
– Ну что, Наташа, готова?
Она промолчала, лишь согласно кивнув головой. Высохшие волосы опять закрыли лицо и рассыпались на грудь поверх камуфляжа. Раскидывая волосы за плечи двумя размашистыми движениями рук, Наташа запрокинула голову, обнажив красивую стройную шею, а распахнувшийся маскхалат открыл неохваченную загаром, обнаженную девичью грудь.
Николай резко оторвался от фотоаппарата, повернулся, что-то бормоча, а когда вновь глянул на Наташу, она, как ни в чем не бывало, смотрела на него широко открытыми невинными глазами.
– Ну что ты, Коля. Давай же! Включай свою жужжалку…
Нажав кнопку и подсев к Наташе, он уже не клал ей руку на плечо. Она же подвинулась к нему вплотную, обняла его за плечи и поцеловала перед самым щелчком в щеку, а когда перестал жужжать затвор, прильнула к его губам… Не стало, как будто и не было, комаров, не было острой и колючей травы, не было дыма от костра, не было жуткого и страшного болота – было журчание криницы, мягкий нежный шепот молодой листвы с терпкой горечью запахов расплавленных солнцем листьев и цветов… Солнце уже зависло над верхушками деревьев, когда они выбрались к грунтовой дороге, ведущей в Дубы – маленькую деревушку, от которой ходил рейсовый автобус в город. До деревни было не более получаса ходьбы и до ближайшего автобуса – еще часа два. Они улеглись недалеко от дороги в высокой траве на опушке дубовой рощи, чтобы скоротать время до автобуса.
– А где мы деньги на билеты возьмем? – спросила Наташа, лежа головой на груди у Коли и играя травинкой с его ресницами.
– Да вот рыбу какой-нибудь бабке отдадим, хватит нам на билеты. Зайдем ко мне домой в Зелёнке, я что-нибудь у сестры сопру тебе переодеться и проведу тебя до дома.
«Лето, ах, лето! Лето звонкое, будь со мной», – донеслась популярная в то время песня, звучавшая то ли из магнитофона, то ли из приемника. Наташа дернулась, вскочила, прислушалась. Песня доносилась из дубовой рощи, где туристы города любили отдыхать компаниями по выходным. Впрочем, и в будни в хорошую погоду там нередко стояли цветные палатки отдыхающих.
– Это они, Коля, это они, – шепотом почему-то сказала она ему.
– Кто они? – поднял голову и прислушался Николай.
– Это те, от кого я сбежала. Я теперь вспоминаю эту дорогу. Я специально по ней не побежала, а пошла в это проклятое болото, чтоб они меня не догнали или не нашли. Пошли отсюда скорей – мне страшно. Они могут увидеть меня, и тогда тебе попадет. Знаешь, какие они?
– Так это, те, которые хотели тебя обидеть – твои дружбаны пьяные?
– Да!
– Так… Подожди. – Николай сел, призадумался. – Пойдем, посмотрим, точно ли они?
– Ой, давай не пойдем, давай не пойдем! У них там еще целый ящик водки был, а сейчас уже вечер – они будут все пьяными и злыми. Давай уходить отсюда, куда дальше. Ну, пойдем же, уйдем отсюда!
– Нет, Наташа. Мы подойдём к ним тихонько. Подкрадемся и посмотрим сначала, что там за банда. Ты иди потихоньку за мной, а когда мы их увидим, ты их узнаешь и скажешь мне об этом…
Не принимая ее протесты, он взял ружье, а мешок и рюкзак спрятал под елку и, взявшись за руки, они тихонько стали приближаться к месту, откуда доносилась музыка. И вот в просвете деревьев на большой поляне показалась палатка. Невдалеке дымится догорающий костерок, вокруг которого валяются пустые бутылки, пакеты, одежда. У самого костра стоит эмалированное ведро, из которого торчат шампуры. Между деревьев натянуты два гамака, в которых, качаясь, отдыхают две пары. Возле «24-й Волги» на разостланном одеяле сидит с бутылкой в одной руке и шампуром с шашлыком в другой здоровый амбал и мурлычет под нос песню в такт подвешенному на суку дерева магнитофону. Из железного корпуса магнитофона «Электроника», подключенного к аккумулятору автомобиля, на весь лес гремит: «…Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы годами в засаде ждали…»
– Ну, вот и дождались! – пробурчал Николай. Судя по реакции Наташи – это были они, ее приятели, зазвавшие ее на «природу» на отдых и едва не изнасиловавшие ее прошлой ночью. Она убежала оттуда босиком в лес, в болото, не успев даже захватить кроссовки и чудом вырвавшись из рук пьяного Андрея, оставив у себя в руках его рубашку, которая и спасла ее в болоте, а сейчас была в роли портянок на ее израненных ногах. Они подкрались к палатке настолько, насколько это было возможно, чтобы оставаться незамеченными. Пары в гамаках что-то щебетали, смеялись, обнимаясь, целуясь, поигрывая, щипая друг друга. Амбал Андрей тупо смотрел в одну точку, изредка прихлебывая вино из горла бутылки. Шашлыки он держал так, для вида, так как есть он их, вроде, уже и не мог.
– Эй, вы, любовники-лапочки! Кто составит мне компанию, а то ведь я сам сейчас её начну выбирать, – хрипло провозгласил он в сторону гамаков. Оттуда донесся только длинный мат и смех.
– Иди в болото! Поищи свою куклу-недотрогу. А то, может, ее уже волки съели, что родителям скажешь? Тебе ее отец яйца-то бараньими ножницами отрежет!
– Какие тут волки? А до города километров десять, доберется, сучка. А вдруг и утонет где в болоте, так и фиг с ней, она – телка взрослая, я за нее не в ответе.
– Так вы ж, вроде как, уже и к свадьбе готовились?
– Какая свадьба? У меня таких свадеб цыганка нагадала – пальцев не хватит. Так, подурили – и хорош. Рановато мне хомут на шею, а вот камень бы ей на шейку-то я бы повесил за такой вот пикник. Ну, пусть только попадется, никакой папаша не спасет, – он опять глотнул несколько глотков из горла, – сам завезу в какое-нибудь болото, а потом там и выброшу.
Мушка ружья плавно перемещалась то между широко расставленных волосатых ног Андрея в кроссовках, то по веревкам гамака, то по колесам «Волги», то по ведру с шашлыками… Осечки не было. От заряда картечи «Электроника» разлетелась вдребезги. От второго выстрела подпрыгнуло ведро с шашлыками и упало в догорающий костер. Переполох в лагере длился недолго. Заметавшиеся «туристы» рванули в лес, в болото под косогором. Голые зады худосочных девиц и, трясущиеся жиром, их ухажеров мелькнули в кустах можжевельника – и только треск поломанных ими веток еще долго был слышен в наступившей тишине. Амбал Андрей, снеся по пути натянутые шнуры, сумел-таки вползти в наполовину рухнувшую палатку и затих там с изумленной парой.
– Пошли, – громко сказал Коля, – теперь они долго будут собираться, а может, завтра кого-нибудь я в болоте найду и заведу так, что точно долго выбираться будут, пока друг дружку сами не пожрут…
Наташа, растерянная, ошеломлённая услышанным и увиденным, молча побрела за ним, и до самой деревни она не сказала больше ни слова. Отдав в деревне рыбу в первую попавшуюся хату за два рубля, в сумерках они были уже в Зеленке. Большой кирпичный дом семьи Николая стоял в переулке, выходящим на луг, в пойму Великого озера, последним на взгорке. Дом недавно построили родители, а старый, теперь уже казавшийся крошечным и серым, автоматически превратился в сарай и баню, и был он почти незаметен на фоне своего «собрата». На крыше старого дома-сарая, как обычно, находился сеновал, где и оборудовал себе «летнее гнездышко» Николай. Гнездышко представляло собой байковое одеяло, подушку, дерюгу льняную вместо простыни. Деревянный ящик из-под яблок был и столом, и буфетом, а в железном же ящике лежали хлеб, сало, начатая бутылка самогона из прошлогоднего варенья, лук, нож, банка консервов «Килька в томатном соусе». В железном ящике припасы хранились для защиты от мышей. На цепи висел транзисторный приемник, последний крик местной «тусовки» – «Альпинист» на батарейках. Над входной дверью в нише спрятан з заряженный самопал с коробком спичек, на веревке – фонарик и у изголовья на сене лежат несколько книг: «Цусима», «Поднятая целина» и «Тихий Дон». Весь чердак был небольшим, и большую часть его занимали ненужные «нужные» вещи: в одном углу – гора старой обуви, в другом – связка старых пальто и шуб, под потолком – пучки сушеный трав. Еще дальше – пустые стеклянные банки; еще дальше – всякое железо: от скоб, гвоздей до разнообразных насосов и деталей к мотоциклу. Все это «добрище» отгораживалось от сена рейками, но они местами были изломаны, поэтому сено присутствовало везде.
Пройдя только что взошедшими огородами с запахами зеленого лука и укропа, политой и парившей земли, они тихонько вскарабкались на чердачный сеновал и, притихнув, обнявшись и укрывшись одеялом, включив «Маяк», сразу же уснули, не переодеваясь. Такими их застала мама Николая, тихонько вздохнув и тихонько закрыв скрипящую дверцу сеновала.
«Контролеры ушли», – бегом по коридору и заглядывая в каждый кубрик, промаяковал пикетчик. В его задачу входило караулить приближающихся к сектору контролеров или других сотрудников, маяковать о том, кто входит в сектор, в локалку4 и давать отбой, когда офицеры или контролеры уходят из зоны проживания.
Сразу на продоле барака началось движение. Спящая зона, оказывается, притворялась спящей. На «кишке» – комнате приема пищи отряда – собрались игроки, и пошел рамс-спор, как обычно, с выкриками и визгами, матами и выпячиванием пальцев; в умывальнике открывались сразу все девять кранов: сходить в туалет и не вымыть после этого руки – западло, косяк, а кран закрывать не обязательно – за все уплачено. На «вэрке», так называемом помещении воспитательной работы, включили телевизор, предварительно поставив его на пол, чтобы не было видно дежурному и котроллерам из окна со стороны плаца. Кто-то разбудил каптерщика, и он, проклиная все, что только проклинается, в трусах и тапках, с сигаретой в зубах и с почти закрытыми глазами открывает каптерку5 – доступ к салу и другому хавчику для «кишкоблудов». Разные нечисти тихо растворились по своим уголкам, норкам – им спать нельзя: кому-то же в зоне надо мыть дальняки-туалеты да чистить пини-мусорки.
Стоя в конце коридора у торцевого окна, Николай не оборачивался, курил и смотрел в окно: в лес, в болото, в уходящую ночь. Он уже точно знал по шагам и по голосам, кто ходит, кто рамсит—спорит. Он знал, кто поставил на мадридский «Реал» и сегодня проиграл блок «Кента». Он узнал здесь почти все и про всех за это время. Такова жизнь в лагере: ничего не утаишь, ничего не спрячешь ни от глаз дружбанов, ни от глаз смотрящего, ни от ушей стукачей, ни от нюха оперов. Вчера еще двоих из «босоты6» «окрестил» хозяин на пятнадцать суток в кичу7 за мобильный телефон. Двое мужиков-семейников8 подрались, по их обоюдному мнению из-за того, что один другого нагло объел и обманул. Предстоит у блатных еще выяснение, за что лица друг другу били: по беспределу или по делу. Сходил было в кубрик – душно. Окна давно уже открыты. В некоторых кубриках-секциях, чтобы не спорить и не ругаться с дедами-пересидками из-за открытия или закрытия окон, вообще сняли рамы, лишь только сошел снег, но все равно в кубрике такой шмон-духан от носков, одежды, а главное, от вчерашнего гороха на ужин, что аж режет глаза, не только обоняние. Храп в первом углу несусветный. Шконари – железные койки с пружинными железными панцирными сетками – стоят в три этажа, яруса. Проходы между шконарями – всего на ширину плеч. По подъему шесть человек в одном «ходке» – пространстве между шконарями – не вмещаются: кто-то одевается на продоле, кто-то прямо на шконаре натягивает одежду, а обувается, уже спустившись. Серые, замусоленные тумбочки, разных размеров и конструкций, одна на два-три человека, нагромождены, где одна на одну, а где и в три яруса. Кое-где и ходки шире, и тумбочки самодельные, ширпотребовские больше размером, даже с резьбой по дереву, зеркалом, полочкой для книг, фотографиями и иконками. Одежда, развешенная на железных крюках по спинкам шконарей, надежно прячет обитателей этих лежбищ от света «луны» – ночной лампочки, установленной под решеткой над входной дверью. По узкому коридору между двумя рядами шконарей разостлан потертый и местами прошитый проволокой линолеум. Коридорчик упирается в красивый столик, на котором светится люминесцентным светом 150-ти литровый аквариум. Это гордость, утеха и хобби Николая. Там в углу, рядом с аквариумом, стоит его шконарь, его и его дружбанов «ходок». Но нары там не в три яруса, а в два, так что «пальмы9» там нет. Эти кровати поступили этой осенью из другой, цивилизованной, зоны, которую расформировали. Кто успел схватить за две-три пачки «верблюда» такую кровать, втихаря поставили себе, а трёхъярусную, с пальмой, выбросили. Так что поставленный перед свершившимся фактом начальник отряда утром лишь поорал, что отправит нарушителей ПВР в ШИЗО, да и успокоился. Так в кубрике появилось два «двухэтажных» шконаря, и стоят они уже вот скоро полгода. Рыбки знают, что на улице ночь. Залегли: кто на дно среди морских камешков, привезенных неизвестно кем и когда, кто в заросли искусственной травы, кто в огромной раковине. Только вечно угрюмые мраморные гурами, шевеля длинными усами-щупальцами, висят в воде, неподвижно уставившись сонными глазами в пустоту. Взяв из большой нестандартной тумбочки «под мрамор» (подарок Володи Белого) пачку красного «Минска», Николай вернулся к окну. «Движ» по продолу продолжился и, не обращая ни на кого внимания, Николай прикурил очередную сигарету, задумался. «А ничего, – отосплюсь сегодня после обеда». Он уже приучил себя к тому, что с часу дня и до четырех – у него «тихий час». Никто его уже не трогал, не будил. Даже контролеры делали вид, что не видят нагло спящего под одеялом ЗК среди белого дня…
Кажется, давным-давно поднялся он в этот лагерь. Кажется, вечно здесь и живет. Вспомнилось: в тюрьме, в своей 31 хате «викингов», то есть арестантов в возрасте, он был смотрящим по решению, принятому без обсуждения. Смотрящий за тюрьмой Абдула в маляве10 написал коротко: «С Богом, охотник. Держи порядок по-людски, не забывай об общем. Витя». Так и держал, так и смотрел. А смотреть было зачем и было за чем. Было и смешное, было и грустное, было и гадское, и сучье – за всем нужен глаз да глаз. Дороги, малявы, грузы, общее «колхозное», торбы, дни рождения, проводы, встречи – все это по чину и по понятиям должно строго соблюдаться, и за всем должен смотреть был он, да и в случае чего отвечать тоже ему. А спрос здесь один, если уж пришло время «спросить», а не «поинтересоваться», значит, плохи совсем уж дела у того, у кого спрашивают. Да и стукачи тут же доносят операм о том, кто смотрит в хате, а это уже «организация преступной группы», «руководство преступной деятельностью» да еще сколько угодно формулировок якобы незаконной и антиобщественной, противоправной деятельности. Сами-то менты не могут разрулить логично и бесспорно некоторых ситуаций. Вот – воришка, жулик, только что «спрыгнувший11», переночевал на чужой даче и захватил с собой из холодильника хавки да пару бутылок коньяка дорогого. Положил это все в импортный баул, а чтоб удобнее было перед хозяевами – ведь «вор» – к продуктам приложил в большой баул еще пару картин да телевизор «кубик» А дойти – дошел до ближайшей остановки, где его и повязали. «Заехал» он в хату… Ни родственников (все давно уже от него открестились, отказались), ни друзей. А курить-варить, мыльно-брильное – где взять? Отобрать у соседа, если тот слабей, нельзя. Украсть у друга – тем более. Писать некуда. Милиция даст? Нет. А могут ли они дать? Вот и есть для этого общак: кто, сколько может дать от себя, причем, без принуждения – все в одну торбу. И лежит эта общая торба, и пополняется, и расходуется периодически. Наступил в хате кризис с куревом, опустело общее, нет «грева12» ни у кого – пиши «маляву», проси. Просящему дается. И вот пошли по веревочным дорожкам вместе с малявами и грузы: сигареты, чаек. Переживем «голяк», сами разбогатеем – другим отошлем. Так идет жизнь в тюрьме. Ломают ее, безжалостно пресекают ее режимники13, контролеры, опера. Но десятилетиями сложившаяся практика и арестантских отношений, и чисто человеческих отношений в тюрьме не может быть уничтожена никакими оперативно-режимными мероприятиями, иногда не поддающимся никакой логике. Вот, например, как арестанту без курева и чая, да и порой без других необходимых для жизни вещей – носков, мыла, порошка? Менты не могут дать – запрещено, да и не раскрутятся они на свои копейки для зэков. Дадут другие арестанты. Но как? Опять приходится придумывать арестантам возможные ходы, вплоть до канализационных труб, водопроводов, сплетенных из ниток носков и свитеров веревок, протянутых вдоль стен между камерами, да и других путей. И все это на плечах смотрящего, а он, «организатор преступной незаконной деятельности», рискует заработать дополнительную статью за злостные нарушения и отбывать часть срока в «крытке» – еще более строгой тюрьме. Но и там тоже есть и дороги, и глаза, и уши. Это сложная тюремная жизнь, о ней не стоит много распространяться, а уж если интересно – все просто: нужно через это пройти. Если получится, если выдержат нервы, если выдержит здоровье, если не подведут друзья, если не «поедет крыша», если не влезешь в косяк-косячище, если, если… Таких «если» – на каждом шагу, все нужно предвидеть, так как всего невозможно знать и всему невозможно научиться. Вся наша жизнь – это опыт, а тюремная жизнь – опыт с ответом. Здесь, уже в лагере, Николай не смотрящий. Он не блатной, он – бригадир, мужик. Но мужик правильный, поддерживающий порядок на основе, в том числе, и воровских традиций. Да и статья за убийство, двое трупов – это не каждому дано. Срок, можно сказать, до конца жизни – в 20 лет. Не каждому охота влезать в душу к нему и тем более попасть в болевую точку. Терять ему больше нечего, хоть и живет он сам по себе, своей жизнью, жизнью волка-одиночки, бирюка. Но свой авторитет есть: блатные его уважают, мужики дружат, нечисти боятся. Конечно, не все так гладко. Есть и завистники, есть и прямые, и скрытые враги. Но так оно и на воле. Только там есть возможность у любого человека спрятать свои чувства и замаскировать самого себя. Здесь такой возможности нет: ты полностью открыт, и недаром здесь говорят: «Будь тем, кем был на воле, кем жил…». Это тоже философия зоны. Кем бы ты себя не маскировал – рано или поздно ты станешь тем, кем был. Так устроен человек: не сможешь ты здесь играть рол долго – слишком тесно здесь. Да и почти все здесь «артисты» – каждый своего театра. Так что быстро раскусят, и хорошо, если нет серьезных грехов, а то выяснения здесь совсем не те, что в суде, в обществе: здесь все справедливо и ошибок в «приговоре» не бывает.