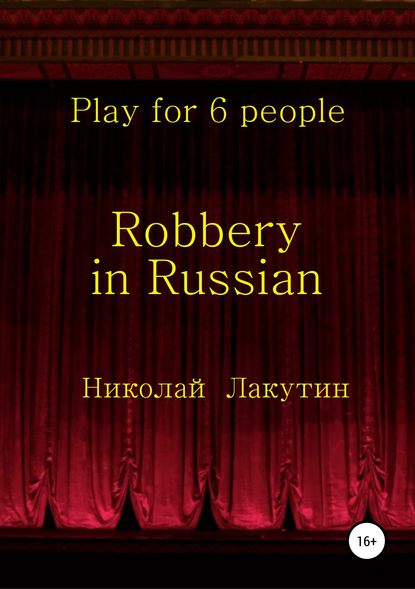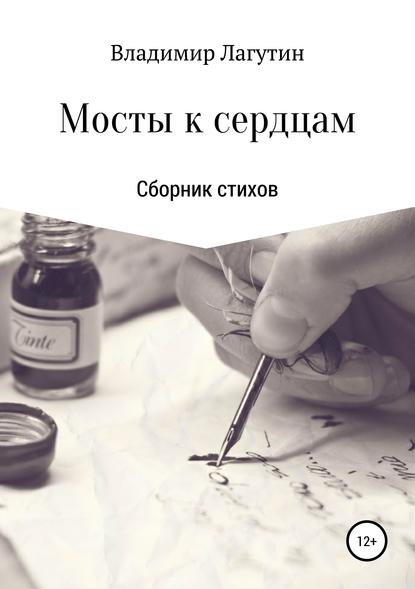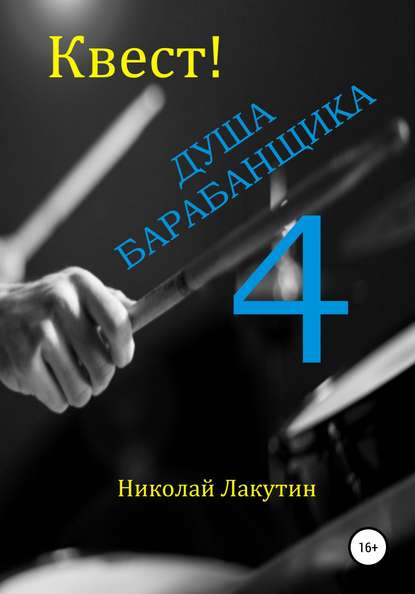Воспоминания о конце 1992 года
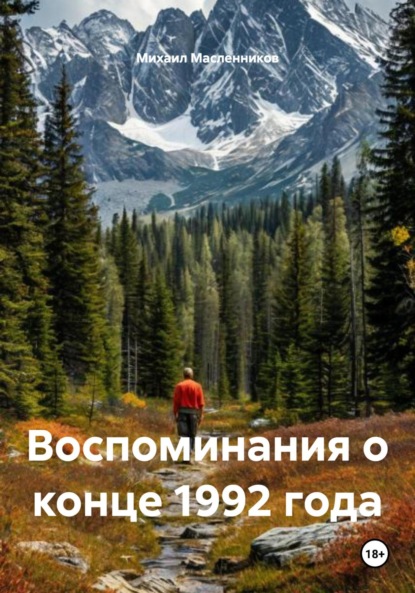
- -
- 100%
- +
Перефразируя А.С.Пушкина, хочется сказать:
«Профессор Верченко – дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…»
Моя машина времени
В этих заметках я позволю себе частенько перемещаться во времени: вперед и назад. В последнее время бытует мнение, что это не такая уж антинаучная идея. Тем более, что как в самой истории СССР, так и в истории советской криптографии, частенько бывали колебания «генеральной линии».
В моей памяти 60-е годы XX века остались как одни из самых интересных в истории СССР. «Наши в космосе!» – этих сообщений все ждали, они всегда были неожиданными и широко обсуждаемыми. Первые космонавты – без преувеличения народные герои. В 1966 году, когда я учился во 2 классе обычной московской школы № 722, к нам в гости приезжал космонавт Владимир Михайлович Комаров. Какой был ажиотаж! Все хотели его увидеть и послушать, но нас, малолеток, на встречу с ним в актовый зал школы не пустили – не хватило места. Когда он трагически погиб в 1967 году, искренне скорбела по нему вся школа.
Престижными были профессии, так или иначе связанные с научно-техническим прогрессом, особенно с математикой и физикой. Различные олимпиады по математике и физике регулярно проходили в Москве и не только в Москве. Издавался специальный журнал «Квант» для молодых ребят, интересующихся математикой и физикой. Появились специальные физико-математические средние школы с углубленным преподаванием физики и математики. Так многие престижные в то время институты и университеты, в первую очередь МГУ, старались заранее подготовить для себя будущих студентов.
Примерно с конца 60-х годов по Москве поползли слухи о каком-то таинственном учебном заведении с фантастически сложной математикой, сравнимой по сложности только с МГУ. Что это за заведение, кого оно готовит, как туда поступить – все было покрыто завесой таинственности, слухов много, но точно ответить на эти вопросы большинство не могло. А кто мог – не хотел. Для создания преимуществ техническим вузам, готовящим инженеров по престижным в те годы специальностям, вступительные экзамены в них проводились на 1 месяц раньше, чем во все остальные вузы. В подавляющее большинство институтов, как технических, так и гуманитарных, вступительные экзамены начинались 1 августа. Но в 3-х ведущих технических институтах – технических факультетах МГУ, Физтехе и МИФИ – вступительные экзамены начинались в начале июля. Причем и здесь были свои приоритеты. На мехмат МГУ – в самых первых числах июля, а, например, в МИФИ – примерно числа 5 июля, после того, как становились известны результаты первого и самого трудного экзамена на мехмат МГУ – письменной математики. Абитуриент, потерпев неудачу на письменной математике в МГУ, имел возможность попробовать свои силы в МИФИ. Если неудача была и в МИФИ, то оставался еще основной перечень институтов, вступительные экзамены в которые начинались с 1 августа.
Молодые ребята стремились поступить в институт еще и потому, что это давало возможность избежать Советской Армии. Идти в армию практически никто из сообразительных ребят не хотел. «Армия – школа мужества, школа жизни» – это все лозунги типа «построим коммунизм к 1980 году». В реальности не все так, точнее – все совсем не так.
И вдруг про таинственное учебное заведение с фантастически сложной математикой просачивается информация, что поступившие туда абитуриенты становятся военнослужащими, живут в казарме и носят военную форму! Но такое невозможно! Фантастически сложная математика и казарма с военной формой – понятия несовместимые, как плюс с минусом.
Читатель, видимо, уже догадался, что таинственным учебным заведением с фантастически сложной математикой был IV факультет ВКШ КГБ. Отбор абитуриентов для последующего поступления на него проводился заранее отделами кадров тех ведомств, которым требовались специалисты-криптографы. Это, в первую очередь, были 8 Главное и 16 управления КГБ. 8 ГУ отвечало за безопасность отечественной спецсвязи, а 16 – за вскрытие зарубежных шифраторов. Кадровики этих ведомств изучали списки победителей различных олимпиад и индивидуально каждому предлагали поступать в это таинственное учебное заведение, не раскрывая никаких существенных деталей, связанных с обучением в нем. Также под пристальным вниманием кадровиков находились различные средние школы с физико-математическим уклоном.
Если бы жизнь всегда текла по строго рациональному руслу, то она была бы неинтересна. Как и в математике, в ней есть место вещам иррациональным, на первый взгляд противоестественным или вовсе невозможным. Для криптографии нетривиальность мышления, неожиданные нетрадиционные решения особенно важны. И воспитание в будущих криптографах нестандартного, нетрадиционного мышления нужно начинать чем раньше, тем лучше.
Переместимся теперь в 1974 год. Предположим, что молодой человек, оканчивающий среднюю школу, интересуется математикой, либо даже просто техническими науками, и хочет после школы поступить в какой-нибудь технический институт. Таких институтов в Москве достаточно много, почти все они в те годы (конец 60-х – начало 70-х) зазывали к себе будущих абитуриентов, проводя многочисленные «дни открытых дверей». Там все подробно рассказывали об институте, его преподавателях, традициях, условиях поступления и учебы. Это – тривиальный, общепринятый путь к высшему образованию и будущей профессии.
И вот до такого молодого человека доходят слухи о каком-то таинственном учебном заведении с фантастически сложной математикой, где не только открытых дверей, но и чуть приоткрытой щелочки нет. Вдобавок ко всему молодой человек питает органическую неприязнь к военной службе и солдафонству. А тут выясняется, что в этом таинственном учебном заведении придется надеть военную форму и жить в казарме!
Хватит ли в таких условиях любопытства и авантюризма выяснить поподробнее, что это за таинственное учебное заведение? Никаких других способов выяснить, кроме как попытаться поступить туда учиться, нет. Ничего себе способ – скажет не склонный к нетривиальным решениям молодой человек. Надо попробовать – а вот этот, пожалуй, способен к творческой исследовательской работе.
И тут главное – не вспугнуть такого человека раньше времени. Главное – чтобы человек, способный к творческой работе, случайно, из-за какой-то мелочи не разочаровался в намечаемом выборе, и все-таки попытался поступить на IV факультет. Поступив на факультет и проучившись в нем хотя бы полгода, он самостоятельно приходит к выводу о том, что главное – это основательное фундаментальное математическое образование и его прекрасно обучают высококлассные профессионалы своего дела. Военная форма – это лишь внешний фасад, позволяющий организовать такое обучение на самом высоком уровне, позволяющий получить столь необходимый для этого доступ к «денежному мешку».
Очень многое зависит от первой встречи абитуриента с IV факультетом. Надо каким-то образом сразу же дать ему понять: парень, не бойся! Военная форма на IV факультете отличается от военной формы СА примерно так же, как в геометрии острый угол отличается от тупого.
Первая встреча проводится перед началом вступительных экзаменов на территории IV факультета. Что же это за территория? Центр Москвы, Большой Кисельный переулок, дом 11. Трудно придумать для этого более хорошее место! Старинный купеческий дворик, располагающий для размышления и фантазий. Народу в нем немного, нет никакой суеты, не видно каких-то начальничков и, о чудо, не видно никакой присущей военному учебному заведению наглядной агитации и плакатов с доблестными воинами.
Собравшихся в этом чудесном дворике абитуриентов приглашают в актовый зал. Над входом в актовый зал небольшой плакатик «You are welcome!» именно на английском языке.
Я шел на первую свою встречу с факультетом в начале июля 1974 года, не зная даже названия учебного заведения. Знал только, что оно подчиняется КГБ. Название «IV факультет Высшей Краснознаменной школы КГБ» впервые прочитал только на выданном на той первой встрече экзаменационном листе. В душе были сомнения: а стоит ли связываться с таким таинственным учебным заведением? А кого там готовят? Какой будет моя судьба после окончания этого учебного заведения? И множество других подобных вопросов. С МИФИ все было гораздо проще, там таких проблем не было. Может, пока не поздно, дать заднюю?
Но чудесный купеческий дворик по адресу: Большой Кисельный переулок, дом 11, и плакатик «You are welcome!» отбросили все первоначальные сомнения. Да и начинаются вступительные экзамены на IV факультет в первых числах июля, как и в МГУ. Если постигнет неудача на первом, самом сложном экзамене – письменной математике, то в запасе еще остаются МИФИ и основная масса институтов.
Вступительные экзамены сложились успешно и к началу августа 1974 года я оказался слушателем 1 курса IV факультета ВКШ КГБ. Примерно через полгода стало понятно, какое замечательное царство математики создал Иван Яковлевич Верченко! Лекции по математическому анализу, высшей алгебре, аналитической геометрии читали замечательные преподаватели, которых все слушатели любили и уважали. Этот преподавательский состав – заслуга Верченко. Сокурсники – ребята умные, сообразительные, нетривиальные, такие же любители математики, окончившие или специализированные физико-математические школы, или победители различных олимпиад, те, кто еще в средней школе делом доказал свое желание учиться и получить хорошее высшее математическое образование. И даже повседневная жизнь продумана до мелочей, все подчинено одной цели – образованию. Замечательная столовая, где кормят вкусно и до отвала. Девушки из столовой с лотками, полными пирожков с мясом, поднимаются прямо к аудитории на 5 этаже чтобы на месте подкормить проголодавшихся математиков в перерывах между лекциями. И многое, многое другое. Чувствуешь повседневную и искреннюю заботу о твоем математическом образовании.
Ни тогда, ни через год, ни через 5, 10, даже через 50 лет я ни на секунду не пожалел о том, что в июле 1974 года поступил учиться на IV факультет ВКШ КГБ.
Застой
Открутим теперь машину времени назад, в середину 60-х. Революционный романтик Хрущев смещен с поста Генерального секретаря ЦК КПСС, на смену ему пришел дорогой Леонид Ильич Брежнев. В начале 60-х всем искренне казалось, что СССР – технически передовая мировая держава. Первый спутник вокруг Земли, первый космонавт. Несмотря ни на что, сумели создать свое ядерное оружие, защитили страну. Все это, в основном, были заслуги хороших специалистов, частично оставшихся в СССР еще с дореволюционных времен, а частично подготовленных уже в советское время. Инженерные профессии престижны и иногда позволяют обеспечить приличные по советским стандартам условия жизни. Но вдруг выясняется, что выдающиеся ученые, такие, например, как создатель советской водородной бомбы академик Андрей Дмитриевич Сахаров, становятся диссидентами, начинают применять естественнонаучные подходы и к политике, интересоваться правами человека, милитаризацией, считают вред, приносимый ядерными испытаниями, требуют демократизации общественной жизни в стране. Короче, как полагали тогда в верхах, занимаются не тем, чем надо. Сделал бомбу – молодец, а где и как ее применять – без тебя разберемся.
Молодое поколение может быть и не знает, что в СССР было запрещено хождение среди советских граждан иностранной валюты. Но она была очень нужна! Для того, чтобы получать иностранную валюту, в Москве был создан специальный магазин «Березка», в котором был широкий выбор дефицитных в то время товаров, но за валюту. Предполагалось, что его посетителями будут иностранцы или советские граждане, проработавшие некоторое время за границей и получившие за это специальные «инвалютные» рубли.
Однажды в «Березку» зашел академик Сахаров и попробовал рассчитаться в ней обычными советскими рублями.
– Нельзя!
– Почему? Ведь на купюрах написано, что они действуют на всей территории СССР! Что, разве московский магазин «Березка» не является территорией СССР?
Эту безупречную с математической точки зрения логику сочли антисоветской провокацией.
Риск превращения хорошего специалиста в диссидента был явно выше, чем аналогичный риск для хорошего офицера. Значит, надо больше хороших офицеров!
Постепенно после ухода Хрущева начинается застой. СССР превращается в тихий омут и стремительно отстает от бурно прогрессирующих капиталистических стран. Первыми на Луну высаживаются американцы, советское безусловное первенство в космосе утрачено. Как впоследствии признавали многие советские пропагандисты, «мы проспали научно-техническую революцию». Мы проспали компьютеризацию и автоматизацию производства, спрос на хороших специалистов стал стремительно уменьшаться. Страна по инерции еще развивалась, но темп развития, особенно в отраслях, не связанных с военными ведомствами, был явно низок. Продукты питания, бытовая техника и электроника, легковые автомобили и запасные части к ним, мебель, ковры, туалетная бумага и многое другое постепенно пропадали из свободной продажи и становились дефицитом. Вот такими мне запомнились 70-е годы.
Перспективы молодых инженеров, окончивших технические вузы в те годы, становились печальными. Распределение в какой-нибудь НИИ, где мужики целыми днями торчат в курилке и обсуждают все, что угодно, кроме своей работы, а женщины вяжут носки и свитера, да заваривают чай на всю комнату. У всех зарплата почти одинаковая, она не зависит от результатов работы. Какой смысл в таких условиях стремиться к прогрессу и придумывать что-то новое, нетривиальное? Сиди тихо на своем рабочем месте, будь как все, не высовывайся, получай свою гарантированную зарплату, необходимую только для такой же неинтересной будничной жизни.
Мог ли СССР избежать застоя в 70-80-е годы прошлого века? Отвечу кратко, одним словом: демократия. Да, мог бы продолжить динамичное развитие наравне с ведущими капиталистическими странами, если бы очистительные процессы, начало которым положил Хрущев своим докладом на XX съезде КПСС, продолжились и привели бы страну сначала к гласности и свободе слова, затем к многопартийности и реальным конкурентным выборам, при которых правящая партия обязана отчитаться за все свои реальные дела, а избиратели – дать им свою оценку. Рано или поздно надеюсь все это увидеть своими глазами, но тогда, в 60-х годах, советское общество было к демократии не готово. Кто в этом больше виноват – многовековые традиции неограниченной царской власти или большевики со своими репрессиями – не могу сказать. Мне кажется, что репрессии по времени были гораздо ближе и у многих еще сохранился дикий страх перед ними.
Как-то незаметно СССР вплыл в застой. Я бы даже сказал в старческо-маразматический застой, когда из каждого утюга только и слышалось: «лично дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев». Этот бред начал звучать, насколько я помню то время, где-то с 1972 года. С тех пор никаких перспектив скорого выхода из застоя не было. Страна уснула и проснулась только после «пятилетки пышных похорон», после прихода к власти Михаила Сергеевича Горбачева.
А ведь «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»! Что же происходило в те годы с советской криптографией?
Начнем с IV факультета ВКШ КГБ. Иван Яковлевич Верченко руководил IV факультетом почти 10 лет, с 1963 по 1972 год. Созданное им математическое царство оказалось очень устойчивым к знакомым по прошлому колебаниям генеральной линии в области криптографии. После Верченко начальником факультета стал хороший офицер в чине генерал-майора. Была запущена для практического опробования такая специальная генеральская философия.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.