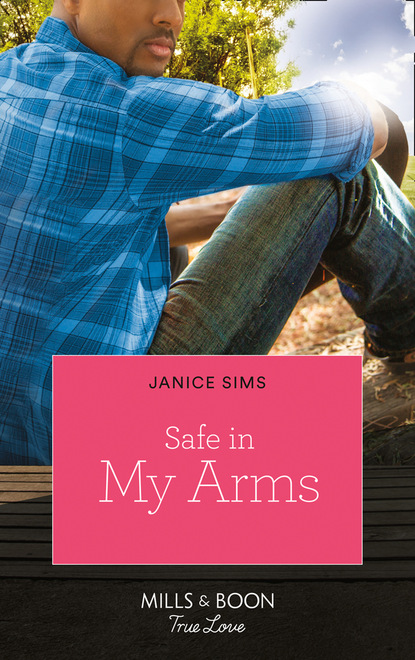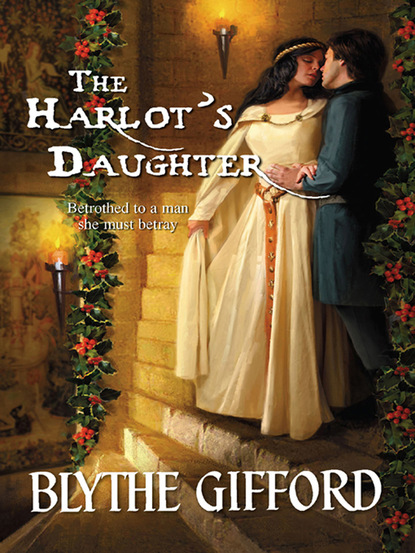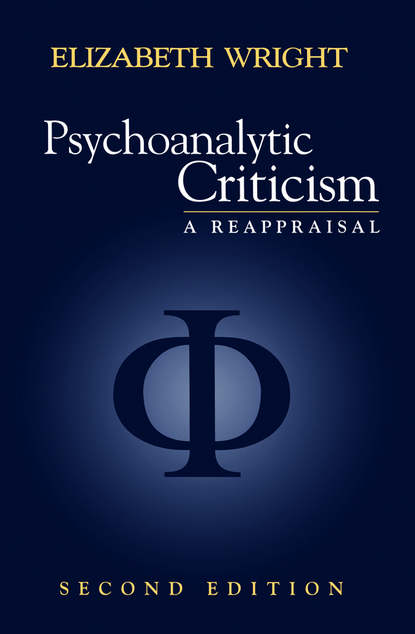- -
- 100%
- +

Дисклеймер: любые совпадения названий, мест, организаций, людей, должностей – это случайность. Все события, персонажи и локации данного произведения вымышлены и не имеют никакого отношения к реальности. Наличествует 18+. Натуралистично описанные сцены насилия и катаклизмов. Косвенно упоминаются вредные привычки.
Светлой памяти Аркадия и Бориса Стругацких, мэтров отечественной фантастики.
"Новые звери вышли из двери. В них стреляли, они… отвечали!"
Глава 1
17 октября 2026, хутор Беленький, дом егеря
Первое, что увидел Михалыч, открыв глаза поутру, – всё та же маленькая Тара, сидящая за столом. Причём сидела она точно в той же позе, что и с вечера; однако стоило егерю проснуться, как девочка повернула голову, критически оглядела его и снова замерла, глядя перед собой.
Егерь зажмурился и вновь распахнул глаза – маленькая Тара никуда не исчезла. Он ущипнул себя: больно, но без толку. Попробовал дотронуться до фигурки – рука прошла сквозь неё. Девочка тут же растворилась, но, едва Михалыч отступил на шаг, возникла на прежнем месте.
– Ну, вот и глюканы пожаловали, – вздохнул егерь. – Дожил.
– Сам ты глюкан глюкавый! – задиристо откликнулась девочка. – Не глюк я. А зеркало. Клятва звучит – значит, я здесь.
Михалыч наклонился ближе.
– Кто же ты?
– Отражение Тары. Капля разума, толика чувств. Я внутри тебя.
– Я тебя вроде не звал.
– Слово дал – слово живёт. «Ты далёк, но чувствую тебя рядом. Невидим – но осязаем». Близость душ намного выше союза тел. И Тара видит свет, пока мы говорим.
– Близость душ, значит? – прищурился егерь. – А ну сгинь!
– Не тьма я. Свет, – обиделась девочка. – Я – Анима! И твоё слово для меня закон.
Она поднялась из-за стола и исчезла. Егерь сел, стараясь унять дрожь в руках, затем набрал номер друга.
– Иваныч, удобно? Не дежуришь? – спросил он как можно спокойнее.
– Нет, я только завтра с утра, – ответил врач. – Что случилось? Голос у тебя странный. Простыл что ли?
– Приезжай-ка сегодня в гости. Чайку попьём, да побеседуем.
– Ближе к вечеру буду, – коротко бросил доктор. – Сейчас в больнице. Держись!
– Принято, – ответил Михалыч и отключился.
«Будем действовать по старой армейской науке: чем бы солдат ни занимался – лишь бы задолбался», – решил он.
*
Так Михалыч и провёл большую часть дня, разрываясь между привычной рутиной и новым, непрошенным беспокойством.
С утра он обошёл западную границу участка: проверил капканы на куницу, перекрыл проломанную проволоку у солонца – местные лосихи за лето растолкали ограждение, словно нарочно. По пути заметил свежий след росомахи: глубокие отпечатки на мерзлой траве, чуть в сторону от старого мостка. Отметил место в блокноте – вечером за чаем обсудит с Михаилом Иванычем, доктор всегда любил слушать про «таежных аборигенов». Да и с росомахой надо ухо востро держать – ей только дай в дом забраться, да погром устроить.
К полудню занялся дровником. Надо было добить последний штабель сыроватой осины – если её не распустить, в морозы потрескается и пойдет гнилью. Пилу вёл ровно, не торопясь. Стучал топором размеренно, будто отбивал такт по незримому метроному. Но всякий раз, когда лез за новым полешком, взгляд цеплялся за край двора, где нет-нет, да и мерещилась девчоночья фигурка с кошачьими повадками. Умом-то он все понимал, но спина по-детски холодела: «анима» какая-то… Таким свидания назначают на кушетке у мозгоправа, а не на ветру среди осиновых чурок.
Потом, чтобы прогнать липкую тревогу, Михалыч принялся чистить карабин – старый армейский способ. «Каждый раз, как тебя скрутит», говорил бывало их командир, постукивая каменным пальцем по столу, «берешь и чистишь ствол. Лучше всего помогает от дури всякой!» Он разобрал затвор, проверил боек, протер ветошью ствол. Едкий запах оружейного масла вычеркивал из сознания абстрактные сюжеты, возвращал в солдатскую, предельно понятную геометрию: есть цель, есть прицел, есть усилие на спусковом крючке. Но стоило собрать ствольную коробку, как тень девчонки-«анимы» снова всплывала на периферии: будто она пряталась в зеркальном отблеске затворной стали.
К четырем часам, когда солнце начало проваливаться за голые кроны, Михалыч набросил на плечи фуфайку и вышел к колодцу – натаскать воды, помыть посуду перед приходом гостя. Ведро звякало цепью, вода пахла мокрым железом. Он прикидывал: доктора надо встретить с крепким боровичком, тушёным в сметане, – тот любит простую, натуральную пищу. В доме уже витал рябиновый дух чая, в эмалированной кружке мокли сушеные яблоки.
К сумеркам осталось последнее – протопить баньку. Михалыч подбросил берёзовых «болванок» и полностью открыл трубу. В розовеющих под закатными лучами клубах дыма над крышей углядел что-то похожее на детский силуэт – будто анима проверяла, не передумал ли хозяин. Он пробормотал себе под нос пару крепких слов, встряхнул головой и занялся веником: смолистые можжевеловые веточки нужно было отпарить, чтобы не кололись.
*
Когда в небе зажглась первая острая звезда, послышалось тихое тарахтение двигателя, а за ним – собачий лай. Машины у доктора отродясь не было. Ездил он на велосипеде, а теперь приделал к нему мотор. За воротами скрипнуло ранним ледком – утреннюю сырость прихватило скрипучей коркой.
Наст скрипел под сапогами, будто старый граммофон-патефон, заедавший на одной и той же хриплой пластинке. Ветер шелестел по крыше, да где-то у трубы поскрипывал неплотно прижатый кусок кровельной жести. От этого мяукающего звука Михалыч дергался, словно караульный на посту. Внутри избушки пахло ламповой гарью, хвойной смолой и лёгким – едва уловимым – озоном: так пах портал, когда он закрылся.
Всё было готово: чай настоян, печь нагрета, карабин почищен, баня курится парком из водогрейного бачка. Но главная подготовка случилась в голове егеря. Весь день он учился дышать без тревожного комка – и теперь был почти готов спросить друга: «Скажи честно, Миша, если тебе вдруг явится девочка с кошачьими ушами – ты поверишь, что это я схожу с ума, или признаешь, что мир все-таки шире наших понятий?»
Дверь распахнулась, и ввалился Михаил Иваныч – высокий, неуклюжий. Он топнул валенками, стряхивая ледышки. Бросил удивленный взгляд на бутылку и стакан на столе.
– Здоров будь, стрелок, – буркнул он, – опять притворяешься, что старость тебя не касается?
Не успел егерь ответить, как доктор, словно вспомнив чужой сон, выпрямился и отчеканил:
– «Per aeternitatem jurisjurandi coram Creatore Mundi…
Anima atque Animus,
velut binae alae unius essentiae,
a Conditore genitae et in Aeternitatem properantes… »
Латынь звенела, словно кто-то накинул на комнату тонкую медную проволоку и пустил ток. У Михалыча перехватило кадык. Он почти ничего не понял, но уловил созвучие с первыми строчками Клятвы: «Lá-nyama ín Ánima, lá-nyama ín Ánimu»
А дальше в голову, подобно стилету, вошла мысль: доктор же цитирует Клятву, но по-латыни! Откуда он ее знает? Где слышал? Тара что-то говорила про «почти приносила Клятву, но…»
Ревность вспыхнула, как порох. Навязчивые картины «предательства» Тары, усиленные глубокой обидой непонятно на кого и на что, затопили контуженную голову Михалыча, как половодье – болото. Наедине с ревностью человек всегда проигрывает: она бьет из слепой зоны.
Он встал, опрокинув табурет, и вышел в сени. Там, под рукой, висел карабин – верный спутник в лесных походах. Стоило коснуться вороненой стали – и мир вокруг привычно сжался до «милдотовской» сетки прицела и мишени за шестьсот метров.
– Стреляй, – тихонько сказала маленькая Тара, возникнув у порога, – только сначала объясни себе, в кого именно ты целишься. В друга, в меня или в собственный страх?
Пальцы, нажимавшие когда-то на спуск с шелковой мягкостью, теперь дрожали. Егерь втянул воздух, досчитал до пяти – старый армейский метод – и опустил оружие. Положил свободную руку на стену. Посмотрел на ружейный крюк.
В избушке по-прежнему горела керосиновая лампа – потрескивала, будто тоже нервничала. Доктор сидел, что-то просматривая в мобильнике.
– Миша, – хрипло сказал Михалыч, – откуда знаешь эти слова?
– Да понятия не имею, – развел руками врач. – Шёл по тропе, и как-то само в голове возникло. Я сам латынь со студенчества толком не помнил.
– А ты часом… не поп? – спросил егерь, и в голосе его ещё скребла сталь.
Доктор задумался.
– Дед мой… Да-да, точно! Дед был священником. Расстрелян в тридцать седьмом…
И он перекрестился: быстро, порывисто, будто нехотя доводя руку до конца.
Маленькая Тара подошла ближе; в ее глазах вспыхивали блики печного огня.
– Коснись – и увидит, – попросила она.
Михалыч послушно протянул ладонь. Врач коснулся – вздрогнул. Девочка стала для него так же зримой, как старые бревна и карабин в судорожно сжатой ладони егеря. Врач с трудом сглотнул:
– Ничего себе глюки ты завёл… Я, выходит, второй зрячий.
– Я – Анима, – сухо откликнулась маленькая Тара. – Поздравляю, субъект Семенов! Двоих уже достаточно, чтобы утверждать: явление объективно.
– Анима значит,– нервно хохотнул Михаил Иваныч.– Прямо по Юнгу. Мужское альтер-это…
И вдруг расхохотался, но смех этот был колючим.
– Старик, ты трижды болван! Первое: Тара не человек. Ждать от неё человеческих слабостей – всё равно что ревновать ветер к берёзе. Второе: если я хоть что-то понял, то для нее измена исключена просто по умолчанию. Для прогрессора клятва – это топология бытия. Узел, что не развяжешь даже если Вселенную перекроить и сшить по новой. И третье: надо было тебе лезть в портал, не раздумывая. Я бы пошёл… но выбрали не меня!
Он стукнул кулаком по столу; кружка тренькнула.
– Портал для тебя тоже открыт, – осторожно заметила Анима. – Успеешь… надеюсь…
– Прекрасно, – фыркнул егерь. – Врач-атеист с поповскими корнями разговаривает с глюком об основах бытия, а отставной снайпер ревнует свет к зеркалу… Так что ли? Чего нам ещё не хватает? Летающей коровы?
– Корова не нужна, – вздохнул доктор. – Нужен смысл. А со смыслом у тебя, Ваня, скудновато. Да и я – не ветеринар.
Тишина раскатилась, как пустой вагон по рельсам. За стеной ухнул филин.
– Я убийца, – глухо произнес Михалыч. – Убивал по приказу, часто даже без злости. И вот думаю: имеет ли право такой человек на любовь вселенского масштаба?
– Имеет, – ответила Анима. – Видевший смерть больше ценит жизнь. Хранит ее чище.
Доктор наклонился к огню, затем повернулся обратно.
– Вот что, фронтовик. Первое: карабин – на крюк. Второе: каждый день пиши письмо Таре. Хоть на бересте, хоть на этикетке от тушёнки. Главное – фиксируй существование. Третье: перестань прятаться в одиночестве.
Маленькая Тара кивнула.
– Сомневаешься, считай до двух. Хотя бы два пути – и пуля останется в гильзе.
Егерь встал, вынул магазин, бросил его на стол, потом вернулся в сени и пристегнул карабин к охотничьим крючьям, как пристёгивают буйного больного к каталке – чтоб не навредил.
– Михалыч!– крикнул вдогонку доктор.– Что в стволе – мне отдай! Раз уж для меня приготовил.
Послышался лязг затвора и дробный перекат по полу. Потом вернулся Михалыч и со стуком поставил патрон на донце перед другом. Потом опустился на скамью и впервые за весь вечер улыбнулся – тонко, в тишину.
– Ладно. Жить – так жить. А ждать… научусь.
Доктор хлопнул его по плечу.
– Вот и отлично. Экзистенция, батенька, – это не вопросы «кто виноват» или «что делать», а ответ «да, несмотря ни на что».
– На хрена тебе патрон-то?
– Чтобы окончательно закрыть инцидент,– ответил доктор, тщательно протирая гильзу салфеткой и пряча в карман.– Все, вопрос закрыт.
Михалыч опустил глаза.
– Что мне делать? Ждать?
– Ждать – это гнить, – сказал доктор. – Ты жить приготовься. Твой организм – уже как минное поле: стресс, бухло и одиночество… Насчет писем Таре – я серьезно. Нацарапай хотя бы «Тара, день прошёл, я жив». Накапливается смысл. Смысл держит голову, а голова держит сердце.
– Смотри на людей: в каждом искра Творца, – добавила Анима, – Прицел видит след пули, а сердце – след света.
В эту минуту огонь в печке вспыхнул особенно ярко. Посреди искристого зарева девочка-Тара вдруг на миг стала взрослой женщиной с золотистыми глазами – той самой, настоящей. Она смотрела на обоих мужчин с бесконечной нежностью исследовательницы, которая нашла наконец доказательство: Homo sapiens способен превышать запланированные параметры.
– Когерентность узла держится, Иван, – сказала она. – Время пока есть. Учимся. Мы все.
Мерцание сжалось обратно в детский силуэт, но теперь уже никто не сомневался – это не фантом, а линия связи, протянутая сквозь космическую бездну. Отличалась лишь речь взрослой Тары. Егерь помнил ее не такой. Профессор, будь он здесь, заподозрил бы топологический дефект связующей струны. Врач предположил бы искажения восприятия. Егерь не подумал ничего – Тара помнит о нем, и хрен со всем остальным.
Доктор осторожно взял Михалыча за плечи.
– Старик, пойми: ты не один. Нас трое. Ты – сила, я – свидетель, она – огонь.
По стеклу окна побежали разводы. Снаружи начинался мелкий мокрый снег. А внутри избушки трое сидели, словно вокруг невидимого костра. Потрескивали поленья в печи, и от огня по стенам бегали рыжие звери: лиса, куница, росомаха… Но тепло шло больше изнутри, чем от печки. Три растрепанные судьбы, две кружки чая и один-единственный, зато абсолютный шанс выполнить данное слово до последней буквы.
Глава 2
20 октября 2026, хутор Беленький
Минуло три дня после отбытия загадочных гостей. Хутор все так же лежал в низине, как забытое семечко на морщинистой и заскорузлой ладони тайги. Каких-то пять дворов, но всё равно чувствовалось: это почти город, целая вселенная для того, кто привык к одиночеству.
С одной стороны к хутору подступал сосновый бор, а с другой уже начинался болотный ольховник. Редкие берёзы шевелили ветвями, вычесывая из воздуха октябрьскую морось, и лишь под вечер, когда стихал ветер, слышно было, как редкие тяжелые капли щелкали о доски колодца. Осенний вечер тускло догорал: последний огненный отблеск заката дрожал над болотом, будто кто-то невидимый держал там красный фонарь.
Со стороны города по просёлку, засыпанному щепой, словно нехотя, въехала на хутор чёрная «Тойота-Тундра» с московскими номерами. Машина явно проделала немалый путь: грязь застыла на полированных бортах тяжелыми грубыми мазками, задние амортизаторы просели под грузом. Пикап медленно подъехал к приземистой, очень длинной избе профессора и остановился. Двигатель словно выдохнул напоследок – и стих.
Из машины первым выбрался высокий, грузный, пожилой мужчина. Одет он был в новенькую «горку». Лысину, усеянную пигментными пятнами, покрывала ещё советских времён шерстяная шапочка. Взгляд его был медлительным и тяжёлым: учёный, ушедший на руководящую должность. Это был Платон Николаевич Краузе – старый друг и бывший начальник Лахенштейна.
Следом показался высокий сухощавый парень лет тридцати, одетый по-городскому неброско. В глаза бросалась лишь жесткая и явно недешевая, искусно сделанная кожаная куртка, густо запыленная дорогой. На его лице играла чуть отрешенная улыбка, словно у человека, видевшего мировой океан с другого берега. В руках молодой человек упрямо сжимал небольшой рюкзак, будто это был штурвал межзвездного фрегата. Он медлил выходить и, даже ступив на землю, оставался слегка рассеянным, будто смотрел одновременно сквозь стены, через облака и вглубь собственной памяти. Звали молодого человека Иван, и был он здесь лицом совершенно неофициальным, а может быть даже и праздным.
На крыльцо, грохоча тяжёлыми башмаками, вышел хозяин – профессор Александр Соломонович Лахенштейн. Глаза его, быстрые и цепкие, излучали почти мальчишескую радость: привезли-таки приборы! Он сунул руки в карманы, пружинисто спустился по ступеням и заколебался между «Привет, старый друг!» и «Как вы смеете опаздывать на такое торжество науки?». В итоге получилось всё сразу:
– Платон, голубчик, клянусь всеми чертями Ферми, – я уж не верил, что приедешь! – он обнял Краузе, после чего метнул взгляд на молодого человека и, словно вспомнив обиду, сухо кивнул: – Здравствуй, Иван.
– Здравствуй, отец, – так же сухо отозвался тот.
– Тебя проводить в последний путь – удовольствие сомнительное, – буркнул Краузе и постучал ладонью по металлическому футляру на грузовой платформе. – Но по твою душу привёз вот это.
От машины послышался лёгкий, почти музыкальный звон: вибрировали стяжные цепи вокруг металлического ящика. То был НАК-700-М – наблюдательный аналитический комплекс, модульный монстр, умеющий видеть сквозь ночь, туман и, казалось бы, проницать саму ткань пространства. Профессор прищурился, как кот, почуявший теплую сметану.
– Ну, милости просим! В доме простор, на чердаке прохлада, у печи тепло, лишнего не надо, – с жаром заторопился он. – Платон, ты ещё и высоковольтный блок привёз? Превосходно. А спектрограф на сто пятьдесят каналов? Тоже интегрирован? Умеют же в Обнинске… Азот? Чиллер? Генератор?
– Тише-тише, Сан-Семильич, – осторожно заметил Краузе. – Даже самоходный дрон есть, чтобы всё это добро на горбу не таскать. Но имей ввиду – комплекс мы взяли под честное слово. До следующей весны он по бумагам в ремонте и модернизации. Нет подписи – нет приборов, сам знаешь.
– А что на самом деле в ремонте?
– Трекер от него, – грустно улыбнулся Краузе. – На его место ребята заглушку собрали.
Лахенштейн только махнул рукой. Его уже захлестнул привычный азарт: из глубин разума наружу прорывался вулкан гипотез и формул. Он бормотал о локальной метрике, о квантовых подвижках α-константы, о том, что, если повезёт, «снимем такой пассаж, что в Женеве мозги вспухнут». Он говорил быстро, слегка подавшись вперёд, словно опережал самого себя.
Рядом стоял Иван, и с каждым словом отца лицо его мрачнело. Таким взглядом наверное следователь Инквизиции смотрел на допрашиваемого.
– Рад, что нашёл время, – сказал отец, стараясь звучать буднично. – Поможешь с монтажом.
Иван ответил негромко, почти шепотом:
– Я не помогать приехал, отец.
– Ах да, – язвительно проговорил профессор. – Ты ведь… путешествуешь, – слово он взял в кавычки лёгким кивком. – Теперь, я слышал, и работу бросил. За десять лет странствий – ни диссертации, ни строчки публикаций. Из аспирантуры вообще вышибли, не приняв.
Парень улыбнулся печально:
– Публикации доказывают только то, что бумага всё стерпит.
– А вот приборы терпеть не умеют, – подхватил Краузе, чувствуя ненужность в зарождающемся споре. – Сан-Соломоныч, нам бы разгрузить, пока не стемнело.
Тут Платон Николаевич оступился и провалился в ямку в колее, выбив фонтанчик черной жижи. Он резко потерял интерес к процессу и стал отряхивать штаны.
– Иван, – отец повернулся к сыну, – болото вот-вот покажет активность, спектры нужно снять, пока погода держится. Пойми, это шанс – привести доказательства того, что пространство здесь особенное, нестабильное!
Сын поднял голову к ночному небу. С болота тянуло острым холодом и намеком на нечто бесформенное и не спектрографируемое.
– Пап, – сказал он мягко, – а может некоторые двери лучше оставлять закрытыми?
Лахенштейн откинулся, будто получил пощечину.
– Двери? – голос его дрогнул. – Знаешь, сколько лет я жду хоть щелки? Я шёл к этой работе через издевательства. Шел через обкомы, через комиссии по лженауке! Шел через безденежье, через братков девяностых и торгашей двухтысячных!!! Маски разные, а рожи все те же… невежи… – процитировал он известного барда. – А ты говоришь: «закрыть»?
– А если за щелью кто-то уже стоит? – тихо ответил сын. – И никто из нас, людей, не готов к встрече? Даже твоя аппаратура не готова. Что тогда?
– Прости, сын, но по твоим фантазиям не напишешь отчет, – жёстко отсёк профессор.
– Отец, – перебил сын негромко, – разве тебе мало теорий? Зачем лезть в то, чего не понимаешь?
Лахенштейн удивлённо поднял брови:
– «Не понимаю»? – он даже усмехнулся, но смех был колючим. – Мне почти семьдесят; я полжизни гонялся за подобными феноменами! Почти все кандидаты сошлись на том, что это оптическая игра болотных газов. Дмитрия Ивановича Лазарева за это с кафедры выгнали. А я вижу – не газы! Нужна аппаратура, точная, безжалостная, и тогда…
– Тогда, – тихо сказал Иван, – что-нибудь может случиться, и дороги назад не будет.
– Сентиментальный вздор! Видишь ли, сынок, науку делают не раскаянием, а данными. Айда, Платон, помоги-ка занести.
Краузе застыл между двумя полюсами: с одной стороны – старый товарищ, последний якорь их академических лет; с другой – молчаливый парень, в котором чувствовалась неясная сила. Платон, кашлянув в кулак, всё же потянул за край ящика, откидывая запор. Металл звякнул.
– Отец, – Иван подался вперёд, – послушай меня хотя бы…
Лахенштейн вскинул брови:
– Вот что, Иван Александрович. – тон его внезапно стал ледяным; в этом холоде проступил реальный возраст, прожитый на кафедрах и полевых базах. – Ты хороший парень, но ты не прошёл ни аспирантуры, ни даже нормального дипломного практикума. Можешь объяснять себе всё «волей божьей» или чем ты там любишь. Ценю твою заботу, но позволь профессионалам решать профессиональные задачи. Не вмешивайся. Всё.
Слово «всё» повисло, как хлопнувшая дверь. Иван хотел ещё что-то сказать, но увидел, что отец повернулся к нему спиной, и понял: «всё» сказала именно эта спина.
В этот момент за изгородью стукнула калитка, и раздался бодрый голос Ивана Михалыча:
– Вечер добрый, господа физики-лирики! Что за железу складируете? Не сожрет ли она наше электричество без остатка?
Егерь заметил напряжение без слов: взгляд на профессора, взгляд на сына, оценивающе – на Краузе. Он подтянул на плечо ружьё без патронов – магазин был умышленно отстегнут и убран в карман, чтобы не стращать столичных.
– Это, дражайший Иван Михайлович, – надел ученую маску Лахенштейн, – измерительный комплекс, который наконец докажет…
Профессор запнулся: в его понимании требовалось сейчас объяснить нейтринно-волновой парадокс пастухам с бронзовыми мечами.
– Докажет, – кивнул егерь серьёзно, – или провертит дырку в том, что и так еле держится. – он заглянул профессору в глаза, как заглядывают в костёр, проверяя, горячи ли угли. – Болото нынче злое. Послушали бы сына, Сан-Соломоныч.
– Э-м… – повернулся к егерю Краузе.
– Васильцев Иван Михайлович, – представился тот. – Местный егерь и сосед Александра Соломоновича.
– Иван Михайлович, вы очень кстати! Мы тут, понимаете ли, научную установку разворачиваем, – Краузе кашлянул. – Так что… коллеги, давайте отложим метафизику и сказки. Рабочий день короток, а мы…
– А мы, Платон Николаевич, люди, – мягко оборвал его егерь, – и людям свойственно выбирать, верить иль не верить всему, что звенит и мигает. – он поставил керосиновый фонарь на ступень, и свет лёгким золотом потёк по лицам. – Я чайник поставил. Разговор продолжим за столом. С приборами и разгрузкой торопиться не советую. Ночь сегодня безлунная.
Он повернулся к Лахенштейну:
– Сказка-то, профессор, иногда мудрее формул. Видишь, сын-то твой просит по-хорошему.
Лахенштейн хотел возразить, поднял руку, будто искал ответ, но слова рассыпались. За домами что-то хрустнуло в мокрой трясине – короткий вздох земли: не то корень лопнул, не то шаг кто-то сделал. Профессор шумно втянул воздух, но вместо ответа вышло лишь ворчливое:
– Помогайте, если пришли.
И тут Иван Михайлович хлопнул по ящику так, что стенка его гулко и протестующе звякнула:
– А вот не помогу. Сначала – чаёк, потом – думать. Профессор, вы забыли, как болото рассердилось прошлой зимой? Порезало льдом все ловушки, вывернуло настилы. Не стоит злить его без нужды.
Лахенштейн сдавленно засмеялся:
– Иван Михайлович, да бросьте вы свои шаманские байки, мы люди XXI века!
– Эк, как гордо! – егерь прищурился. – Тогда напомню: у XXI века есть ещё и ответственность. В лесу да на болоте – моя. А что у вас? – он ткнул пальцем профессора в грудь. – Любопытство?
Профессор запнулся. Сын сдержанно улыбнулся, благодарно кивнув егерю. Михалыч внимательно посмотрел в ответ – кого-то ему этот тёзка напоминал, но он никак не мог вспомнить кого именно. Ветхий хутор в эту минуту стал рубиконом, где столкнулись три упрямых вселенных: энергия старого ученого, загадочный опыт сына-скитальца и пахнущая терпким сосновым дымом мудрость егеря.