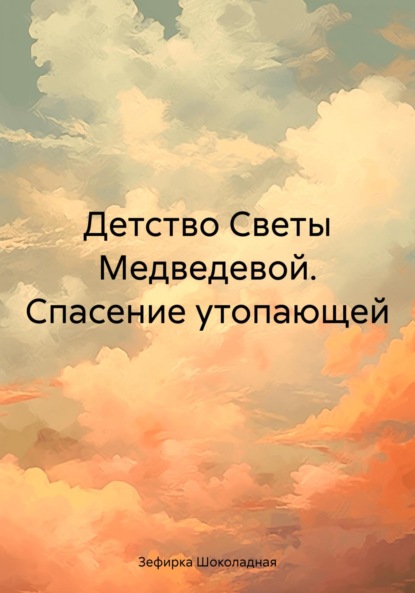- -
- 100%
- +
Молчание нарушало лишь тихое попискивание приборной панели: комплекс, запитанный от аккумулятора прямо в ящике, уже запускал самотест. Зеленело окошко индикатора, и в его отражении профессор увидел на мгновение своё лицо – усталое, взъерошенное, с тенью неуверенности. Хотя, может, ему лишь показалось: темнело вокруг на глазах.
– Ладно, – буркнул он, пытаясь сохранить лицо. – Чай так чай.
И они пошли к дому, где чайник уже шумел на печке. Тёплый свет окон егерского жилища поглотил всех четверых, словно огонь не жгущий, но согревающий.
Чай пили долго и со вкусом. Деревянные стены дышали ночной прохладой, огонь керосинки отбрасывал на потолок неуверенное жёлтое пятно. Спорных тем не касались. Иван-сын больше смотрел в глиняную чашку и молчал, словно созерцая скупую игру бликов. Егерь в основном комментировал лишь тонкости заварки трав и ягод. Краузе и Лахенштейн вспоминали молодость.
Потом Краузе начал клевать носом: почти полсуток за рулём в его возрасте – немало. Лахенштейн отвел друга в комнату, а сам вернулся за стол.
– Отец, – вдруг произнёс Иван, – ты ищешь доказательства там, где осталась только вмятина от удара. Но вмятина не расскажет, кто бился и зачем. Всё равно что гладить тень от человека и ждать, что она потеплеет.
– Я уже всё сказал, – тон профессора стал снисходительным, будто он разговаривал с неразумным ребенком. – Если у тебя есть факты и цифры, объясняющие здешние феномены, – милости прошу! Что за поля? Какова их природа? Какой интеграл действия? Нужен факт, объект, число. Тогда разговоры про «двери, которые лучше не трогать», перестанут быть религией трусости.
Он хотел ещё что-то добавить, но оборвался: Иван смотрел так спокойно, что это спокойствие резало слух, словно свист ветра в мушке ружья.
– «Религия трусов», значит… – в голосе сына не было ни язвы, ни угрозы, скорее лёгкая досада. – А что, если смелость – это умение признать, что есть вещи, не предназначенные быть игрушками? Ты утром вскроешь кочку, днем достанешь образец, вечером отчёт улетит в столицу. А через день сюда приедут другие – с экскаваторами, блок-постами и реестрами допуска. Пойдут отчёты, формуляры, протоколы. Болото распашут, и хорошо, если тебя не похоронят под отвалом всей этой бюрократии, а то и похуже… Это болото – как диковинная птица: поймаешь в клетку – перестанет петь.
– Прекрати поэзию, – отрезал профессор. – Прямо «Гамлет-На-Болоте”! Ты так говоришь, будто здесь годами жил! А у меня нет роскоши просто наблюдать за птицей, не называя ее вид. Научный век короток.
Он помолчал и добавил:
– Ты всегда был фантазером, это тебе удавалось лучше всего. Но что ты о себе возомнил, если ставишь себя выше науки? Шёл бы в артисты!
– Я ставлю жизнь выше любой структуры, – отрезал сын.
– Наука – не структура, – мягко усмехнулся профессор. – Это религия наоборот: она идёт к истине с другой стороны.
– И это выше жизни? – Иван откинулся на спинку. – Чем ты тогда лучше инквизиторов с их кострами?
Они смотрели друг на друга – не враги, не союзники, чем-то похожие, но очень разные, как борей и пассат. Лица их освещал один и тот же огонь лампы, но тени падали в разные стороны.
Профессор поднял взгляд, в котором мелькнули нездоровые искорки:
– Я рискую только своим. В мои планы входит заглянуть за край, но не заходить за него. Просто не мешай. Хотя – как ты сможешь помешать?..
Иван не ответил, но по выражению его лица отец понял: сможет. И эта неясность злила профессора сильнее, чем необходимость препираться.
– Не буду мешать, – вздохнул Иван. – Только край иногда уходит из-под ног внезапно. Успей хотя бы позвать на помощь…
– Это уж моя стезя, – усмехнулся профессор, – балансировать на краю.
Снаружи хлопнула дверь: егерь, кутаясь в телогрейку, возился с дровами. Шорох поленьев вернул разговор на грешную землю.
– Видишь, – усмехнулся сын, – в любом споре есть третья сила: обыденность. Стоит печке остыть – и мы идём за новыми чурками. Не поймём друг друга?
– Поймём, – спокойно возразил профессор, – просто не согласимся.
– Ты мудр, отец…
– Просто живу долго.
– Тогда почему…
– Сынок, довольно. Давай хотя бы уважать друг друга.
Иван поморщился:
– Я не об этом. Вопрос житейский. И последний.
Профессор кивнул.
– Я никогда не спрашивал: почему ты тогда ушел, оставил нас?
Лицо Лахенштейна исказила сардоническая усмешка:
– Я не ушел, сынок, меня уволили. Твоей маме не нужен был нищий ученый. Она была слишком яркой для девяностых. С первого раза не вышло – её ухажёра взорвали вместе с ее лучшей подругой, а не с ней. Именно в тот день… – руки профессора дрогнули. – она попыталась вернуться, но тут уже я пошёл на принцип. Второй раз у нее все было удачнее.
– Никто мне об этом не рассказывал, отец, – вздохнул Иван.
– Зачем тебе это? Наука стала для меня всем. Никому не надо знать, на что пришлось пойти, чтобы сохранить свою стезю. Кому и какие услуги оказывать… И вот, на грани открытия, бросить всё – значит предать тех, кто не вынес этого бремени.
Сын кивнул, коснулся плеча отца – не как миротворец, а как человек, принимающий другого таким, каков он есть.
– Прости, отец. И, наверное, прощай… Хотя надеюсь, ещё увидимся.
– На всё – воля Божья, – с лёгким сарказмом ответил профессор.
Уже в дверях Иван обернулся:
– На всякий случай: если вляпаешься в беду – постараюсь вытащить. Если сможешь удержаться от последнего шага – честь тебе. Если нет – я не готов умирать за колонку цифр.
Профессор не ответил. Даже не повернул головы.
Иван вышел на крыльцо и тихо втянул морозную сладость ночи. Он сделал всё, что мог. Минула полночь, а значит уже сегодня им придётся уехать: Краузе нужно быстрее вернуться в Обнинск. Придется рулить по очереди. А перед поездкой через Урал машине полезно пройти профилактику, и лучше это делать не в Кромске.
Оставшись один, профессор склонился над блокнотом. Он писал быстро, размашисто, будто прокладывал мост из слов туда, куда кто-то другой, возможно, ходит без карт. Каждому своё: одному – числа, другому – шаги по мечтам и фантазиям, где почти не остается следов. Быть может и мир держится лишь пока оба маршрута остаются открыты, даже если они никогда не сходятся.
На следующее утро ни о чем уже не спорили. Быстро и буднично разгрузились: комплекс, генератор и прочее оборудование вытащили по отдельности, а дрон вообще съехал своим ходом. Так же буднично гости распрощались и уехали, словно их и не было. Профессор и егерь снова делили хутор на двоих, как уже сложилось годами…
Глава 3
28 октября 2026, тайга
Минула неделя после визита гостей к профессору. Наступил конец октября, что для егеря означало новые хлопоты. Минувшее приключение с Тарой пролетело и закончилось, оставив послевкусие воспоминаний и глубоко спрятанное томление ожидания. Однако дела насущные никуда не делись. С самого начала месяца он обходил зимовья, вносил в амбарную тетрадь каждую белку, развозил соль по кормовым площадкам да подновлял зимовья. Теперь наступило время вернуться домой, на хутор, где сухари выжидают в полотняном мешке, а печка, должно быть, уже забыла, как звучит дровяной гул.
И схалтурить нельзя. С первого ноября начнется выдача лицензий на пушнину, а значит, на Беленький потянутся угрюмые немногословные промысловики, желающие получить заветную бумажку. И надо знать, кому и что разрешать. Занижаешь нормы – лови потом по лесу «серых проходимцев» и просто браконьеров. Завысишь – и зверя выбьют да распугают, а крайним будешь ты.
Крайняя вылазка заняла почти четыре дня: пришлось изрядно повозиться. Болото здесь врезалось в холмы длинными лучами-промоинами, кое-где переходящими в камовые россыпи с уныло журчащими между камней ручьями, что обычно пересыхали летом. Местность оказалась труднопроходимой для трелевочников, и до раскидистой кедровой рощи пока не добрались. По всей округе лесных великанов, что набирали силу по веку и более, нещадно валили на срубы для богатеев, но не здесь, а восточнее, куда доставала удобная просёлочная дорога.
Два солонца пришлось переносить, да ещё изрядно обветшала самая северная из заимок. С ней оказалось особо хлопотно: работать пришлось максимально тихо – совсем недалеко залег в берлогу косолапый.
Ещё вчера вечером, пробираясь к заимке, егерь сильно припозднился. Когда подмерзший мох стал похрустывать, будто невидимые клавиши, Михалыч увидел свежий след лося – молодой бычок, широкая поступь, даже не оглядывался. Егерь улыбнулся: значит, кормовое окно еще открыто, солонцы делают своё дело. Он заложил за следом букет из зелёной кедровой лапы, будто письмо, оставленное почтовым голубем.
За камовой россыпью листву смяли медвежьи «валенки» – крупный самец, три дня как залег в берлогу, но просыпался, ворчал, выходил «подышать новым воздухом». Егерь присел, тронул руками ещё не промерзшую землю. Прислушался: где-то под корягой тихо шептал ручей, сохранявший лето в своем лоне. «Спи, хозяин, – словно шептал он, – мы бережем твой сон». Иван Михалыч не стал задерживаться и скорым шагом отправился выше.
Ближе к перевалу, ведущему к соседней россыпи, где двойная слежка барсучьих нор сливалась в одну, обретался искомый старый лабаз: крыша навеса просела, ткнулась носом в землю. Михалыч снял топор, подновил веранду шестом, поправил наклоненную печурку. Печка, почти забывшая беседу с живым огнём, проснулась быстро: достаточно было щепотки бересты, двух сухих поленьев и старой сказки о том, что огонь вечен, пока есть кто-то, кто верит в тепло. Пламя поднялось, угли задохнули чаёк в маленьком походном котелке. Егерь протянул к огню ладони: не грелся, а обменивался новостями – у леса своя почта, ясная до последней птичьей трели, до треска сучка на морозе. Когда из трубы показался дымок, лабаз будто вздохнул, расправляя плечи, и снова принялся сторожить чащу.
Чай закипел в котелке, и заимка наполнилась запахом копченой смолы, легким и добрым, как запах новогодней елки из детства. Михалыч заварил щепотку кипрея, бросил в кружку кусочек брусничного варенья – и горячий, терпкий глоток пошёл гулять по телу, доставляя тепло аж до пяток.
Вечером тайга подбросила подарок: белый рябчик, забыв осторожность, подсел на сосновую ветку у тропы. Сквозь тонкую корону лапника просачивался последний свет. Иван Михалыч снял ружьё, прикинул, провёл мушку… и опустил ствол.
– Пока держится бабье лето – живи, – прошептал он птице.
Рябчик мигом исчез, и старый снайпер вдруг понял: вот она, истинная власть человека над тайгой – уметь не пользоваться ею.
Возле лабаза на дереве висела фотоловушка с солнечным питанием. Несмотря на слабое осеннее солнце, мощный железо-фосфатный аккумулятор держался уже две недели. Солнечная панель была прикручена отдельно, с южной стороны ствола, но и ее не всегда хватало. Егерь заменил батарею и карту памяти на новые, а сам уселся у огня и стал просматривать журнал через смартфон. Тетрадь по привычке распахнулась сама. Записал: «Лось (мыс Боровой) – след свежий, крупный. Бурый медведь – берлога подтверждена, координаты те же». И добавил невидимой строкой: «Ворон-подлец таскает соль с площадки номер три – не мешать. Зима близко!». Потом подумал и приписал карандашом внизу: «Тара! Лес держится. Человек – тоже». Поставил точку крупную, как черничная ягода. Подул на страницу: буквы подсохли, запахли графитом и дальними странствиями.
Там его и застала ночь: на каменной террасе, где ручей ещё не сковало льдом, а только наметало серебристую кожицу. Егерь выставил фонарь на валун, почти к кромке воды, чтобы путнику, если такой появится, не пришлось плутать. Обработал спиртом культю под протезом, после чего лёг на постеленный еловый лапник и уставился в небо. Звёзды медленно вращались, будто гигантское поле неведомых шахмат, где каждая фигура – то ли древний воин, то ли забытая мечта. Где-то далеко ухнул филин, словно спрашивая:
– Хозяин? Ты?
Егерь машинально ответил:
– Я.
После долгих одиночных обходов разговаривать с лесом – всё равно что здороваться с соседом по лестничной клетке.
Непрошенных четвероногих он не боялся. Во-первых – запах дыма, а во-вторых – фонарь был с хитрой сигналкой, сделанной профессором: радарно-лидарный модуль раз в секунду сканировал окрестности и поднимал тревогу при движении крупных объектов в радиусе тридцати и более метров. Ещё он реагировал на осадки, но тут уж профессор развел руками – что смог сделать «на коленке» тому и рад. Скажи мол еще спасибо, что в лидаре перепаял диод на китайский десятиваттный «булл стар», а иначе бы фонарик тревогу поднимал лишь когда мишка уже тебя из спальника выковыривал. Потом, правда, помолчал и добавил, что сейсмический датчик решил бы проблему, но пока его так и не сделал.
На протезе скакать по камням было несподручно, а в избушку надо было завезти дров и продуктов на три-четыре ночевки. Засыпая, Михалыч обдумывал, получится ли подняться на «костотрясе» по осыпи или нет. Уснул с надеждой.
Новый день надежды его оправдал, и сейчас под навесом хрюкал тот самый «костотряс» – внедорожный монстр, собранный из мотоцикла «Урал», пары самодельных колес и наглой веры в то, что железо умеет плавать в болоте. Егерь хлопнул по баку:
– Ну что, дед, покатим?
Ответом было лёгкое «дзынь» – будто кто-то за кулисами натянул струну и дал первую ноту. Егерь втянул вольный воздух, за которым уже тянулся первый намек на постоянный снег, перекрестился по-таежному – на четыре стороны света – и тронулся в путь.
Доехав до устья ручья, где валуны ушли в торф, егерь повернул вдоль кромки болота. Сначала дорога шла сухая: жёлтые кочки торчали из черной земли, как проволочные щётки. «Костотряс» тарахтел, но держал ритм: уральский мотор, битый временем, нашёл общий язык с глушью и в который раз спорил с нею, кто громче. Под шлемом Михалыча в такт мотору спорили мысли: сколько рябчиков, сколько заячьих бросков, какой медведь вышел к подкормке, как там медведица из кедровой рощи? А ещё держать путь по болоту – дело тонкое, почти музыкальное: ошибется солист – и дирижер, то есть лес, крякнет разок да утянет тебя на «бис» без права отказа.
За следующим ручьём, больше похожим на небольшую речку, дорогу смазал туман. Воздух стал густым, липким, будто его варили из последней росы этого лета. Тёмная лента воды грозила затянуть «костотряс» в ледяную бездну. Егерь переключил передачу, поддал газу, и железный дед шлёпнул колёсами в черную жижу. Брызги поймали луч уходящего солнца: на мгновение мир стал золотым фонтаном, как в наивных детских книжках, где на каждой странице – счастье, пока не прочитаешь до конца.
Выбравшись из речных объятий, он остановился, чтобы дать мотору остыть и себе – догнать дыхание. Дальше начиналось болото. Здесь оно лежало выпуклой звездой: лучи-промоины, пятна-омбилики из чёрной трясины, а между ними о́зы – крепкие, будто островки здравого смысла. Михалыч одернул воротник. Тут главное – не дать машине задуматься о тяжести собственного бытия. Газ до отказа, и «костотряс» пошёл, как рубака на тонком льду: грохочет, но держится. Баллоны низкого давления хлюпали, словно выдувая из трясины застарелую гниль.
На середине болота затрещала шестерня. Стоило сбавить обороты до холостого хода, как мотор совсем заглох. Егерь соскочил в мокрый холод, встал на колени, открыл кожух. Руки чернели маслом. Болото равнодушно булькало: мол, спеши, пока я не решило, что ты мне нужнее на дне. Шумела шестерня газораспределительного механизма. Быстро нашелся виновник – болт, что раскрутился от вибрации. На пересечёнке мотор попадал в низкочастотный резонанс, на старых движках гровер разминал алюминий – и преднатяг падал. Подтянул гаечным ключом, прикусил губу, чтобы не браниться слишком громко – в таких местах любое грубое слово имеет привычку материализоваться. Осторожно, на первой передаче, вытянул машину из торфяного киселя. Потом еще пришлось растереть конечности и размяться – уж больно промозглой была болотная жижа.
Перед тем как тронуться в путь, Михалыч бросил быстрый взгляд на небо. Солнце опустилось в дыру между облаками, где его тут же «съели» серые тучи. Пахнуло сырой хвоей с лесистого склона. Приближался ранний и унылый октябрьский вечер. Прикинув время, егерь решил не петлять по кромке болота, а срезать напрямую: так до Селищенской балки получалось всего с пяток километров. Он развернул машину и на пределе возможного рванул в сгущавшиеся сумерки.
До знакомой хуторской дороги оставалось всего ничего, когда по глазам вдруг резанула яркая короткая вспышка. Михалыч одним движением выключил двигатель, спрыгнул и пригнулся, коснувшись пальцами земли – забитые на подкорку рефлексы никуда не делись. Долгие три секунды спустя долетел отголосок резкого хлопка. Со стороны было похоже на прилет тяжелого артиллерийского снаряда, но повторов, как бывало при обстреле, не наблюдалось: лишь в направлении взрыва поднимался столб дыма и пара. Но уж очень необычной была вспышка, не «снарядная»! Когда в глазах перестали прыгать «зайчики», Михалыч снова изменил курс, включил дальний свет и помчался к месту происшествия.
Егерь проехал всего полкилометра, как его внимание привлёк довольно большой островок, на котором мерцали огоньки явно не природного происхождения. Стоило ему приблизиться к островку, как навстречу «костотрясу» выскочил человек в бесформенной робе и отчаянно замахал руками, призывая остановиться. Егерь спрыгнул, перехватывая поудобнее карабин, щелкнул предохранитель. Однако человек сам торопливо подошёл поближе и стянул защитный капюшон с маской. Михалыч облегчённо выдохнул: перед ним стоял профессор Лахенштейн собственной персоной.
Егерь коротко мазнул фонарем по лицу собеседника: профессор смотрел на него немного шалыми глазами, на правой скуле наливался заметный синяк.
– Александр Соломонович, вы в порядке? Что тут происходит? – спросил он, кивая на столб дыма.
– Ничего экстраординарного, – привычной стариковской скороговоркой ответил учёный. – Всего лишь ртутный игнитрон с двумя миллиграммами водорода. Проверка научной гипотезы.
– Два миллиграмма? – усмехнулся егерь. – А я бы предположил килограмм двадцать-тридцать в тротиловом!
– Вы, натурально, меня не поняли, Иван Михайлович! – профессор посмотрел на какой-то прибор, изредка попискивающий. – Так… ммм… фон в норме, всё в порядке. Так о чём я? Ах да! В этих местах изменена сама суть нашего мира!
– В каких таких? – удивлённо спросил егерь, хотя в голове его уже зашевелились нехорошие подозрения.
– Ну, я же рассказывал вам! На болоте периодически появляются странные места с аномальной температурой. Их видно в тепловизионные камеры. Я думал сначала – выход каких-то газов. Но, посмотрев снимки новым комплексом, – он гордо указал на футуристическую конструкцию, водружённую на треноге, – я увидел, что они имеют форму кольца.
– Кольца?
– Да. Бублика! Висит такой вот бублик над болотом и всё время вращается в разных направлениях. Я их назвал «Аномальные кольца Лазарева».
– А почему же не Лахенштейна? – егерь всё больше укреплялся в своих подозрениях.
– Меня эти ретрограды не примут, – профессор махнул рукой, облачённой в защитную перчатку. – А профессор Лазарев был моим наставником. У него бездари и тунеядцы отобрали кафедру, он умер в нищете, но я клянусь, что верну ему имя! Может я где-то я перехожу границы, но… —он вдруг задумался, скинул перчатку и аккуратно, не касаясь внешней поверхности комбинезона, выудил из-за воротника продолговатый футляр.
Сбросив вторую перчатку, он вытащил из футляра старенькие очки с дужками, перемотанными проклеенными нитками. Очки были явно не его. Одно стекло было треснувшим.
– Эх… – горестно заметил профессор. – Его очки… упал, когда волной накрыло…
– Так что ж так сильно бабахнуло-то? – ненавязчиво продолжил егерь. – Хорошо, если я один слышал, а то вопросы могут появиться.
– Смотрите, я использовал игнитрон – это газовый выпрямитель такой, с ртутными парами внутри. Но для контроля спектра я добавил водород. Так вот, спектр отличается от обычного! Сначала поплыли линии Бальмера. Потом и другие серии сначала стали более узкими и четкими, а потом… потом, – профессор весь трясся от переполнявших чувств, – потом они размазались в непрерывную линию!
– А так вообще бывает? – спросил егерь и вспомнил слова Тары.
– Нет. Нет! Никогда! Это противоречит структуре атома. Как минимум, там нарушена константа электромагнитного взаимодействия, а, судя по эффекту… Электромагнетизм – ладно, но там и константа сильного взаимодействия похоже изменена!
– И-и… почему такие выводы?
– Потому что вы увидели, Иван Михайлович, ничто иное, как термоядерный взрыв. Взрыв всего двух миллиграммов обычного водорода в условиях обычной ртутной лампы. Причём газ перешел в условия альтернативной физики постепенно: спектр менялся плавно, в течении нескольких часов. Моя гипотеза такова: можно поймать момент, когда реакция пойдёт управляемо. Извлечь колбу, когда «трансформация» ещё не зашла слишком далеко. Вы понимаете, что это значит?
– Пока лишь смутно.
– Это прорыв в энергетике, Иван Михайлович! Прорыв, сравнимый с открытием ядерной энергии в принципе!
– Да уж… – крякнул егерь.
В его голове огненной жилкой запульсировала мысль: «Известить Тару! Как? Когда? Какой ценой?» И Анима, как назло куда-то запропастилась. Но мысль-мыслью, а ответов на этот вопрос пока не было. И место для аномалии было знакомым: именно здесь открывался портал, через который унесли роженицу в родной мир, и через который ушла Тара… милая Тара… Но приходилось отчаянно играть роль туповатого солдафона.
– Что с радиацией? – задал Михалыч самый понятный ему в этой ситуации вопрос.
– Пока превышения фона нет, – профессор снова бросил взгляд на тот же попискивающий прибор. – Э-э… Иван Михайлович, если не в тягость, во сколько вы оценили эквивалент взрыва?
– Килограмм в тридцать, если в тротиле.
– Полная энергия двух миллиграммов… э-э… около трёхсот килограммов тротила, если по гелиевому пути… Прекрасно! Значит, в реакцию ушла лишь десятая часть. Остальное вытолкнуло наружу, не успев «попасть» в аномальный режим.
Егерь ошарашенно выслушал этот монолог. Мысленно выматерился, забористо и многоэтажно, но вслух сказал:
– Хрена се… Александр Соломонович, еп… вы это… аккуратнее бы как-то…
– Не беспокойтесь ни в коем случае! – замахал на него руками профессор. – Я стараюсь не повторять ошибок! Кто ж знал, что на нашей старушке Земле возможно такое! Всего ведь шестьдесят киловольт с конденсатора – должно было только спектр подсветить, а зажгло термояд! И вообще… ведь «аномального водорода» раньше не наблюдалось, а значит… значит, газ вне аномалии должен постепенно вернуться к обычной физике. Всё логично! Теперь только опыты с микроскопическими лампами и внешней холодной ионизацией.
– Но нах… то есть зачем, Александр Соломонович? – егерь еле сдерживался. – Нам и так стоит подумать, как отбрёхиваться! Ваш «аномальный водород» скорее всего уже запеленговали в МЧС. У нас максимум день, пока дойдет «бюрократия».
– Спишем на болотные газы, – снова отмахнулся профессор. – Вряд ли кому-то в голову придёт измерять гамма- и нейтронный фон на болоте. Та-ак… так… М-да… Мох конечно лучше ободрать вокруг, но заметно будет… М-м-м… А, черт с ним, со мхом, надо же сделать замеры у обломков колбы! – и он, ловко надев перчатки, с далеко не старческой прытью рванул в темноту, подсвечивая себе мощным фонарем и на ходу натягивая защитную маску.
Егерь несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Легкий порыв ночного ветра донес запах озона, потом потянуло тяжёлым торфяным дымом с резким «ароматом» гумуса. Вспомнив про радиацию, Михалыч резко выдохнул и, прикрыв рот и нос рукавом свитера, бросился к «костотрясу» за респиратором.
Профессор вернулся довольно скоро, размахивая портативным прибором.
– Ну вот, я был прав, – радостно поведал он. – Превышение фона – не более тридцати процентов. Короткое время облучения, большая дальность… Логично! Скорее всего – ртуть сто девяносто седьмая или двести третья, – он задумчиво пытался почесать затылок, но мешал защитный капюшон. – Иван Михайлович, если не в тягость, полейте меня водой во-он из той канистры, там еще душ аккумуляторный. А то бета-активная грязь все же. И накидка с респиратором там же, наденьте обязательно!
– Вы что, ждали кого-то?
– Нет конечно! Но на всякий случай надо запас иметь…
Некоторое время заняла экспресс-дезактивация.
– Ладно, давайте уж на ночёвку устраиваться, – уже спокойным голосом сказал Михалыч, когда закончили. – Всё равно ваше оборудование с кондачка не собрать.
– Дело, дело говорите, любезнейший Иван Михайлович! – профессор потёр руки и снова покосился на радиометр – тот лишь редко попискивал, ловя «гостей» из глубины Вселенной. – У меня отличный чай припасён. С ромом! Специально для таких экстраординарных случаев.