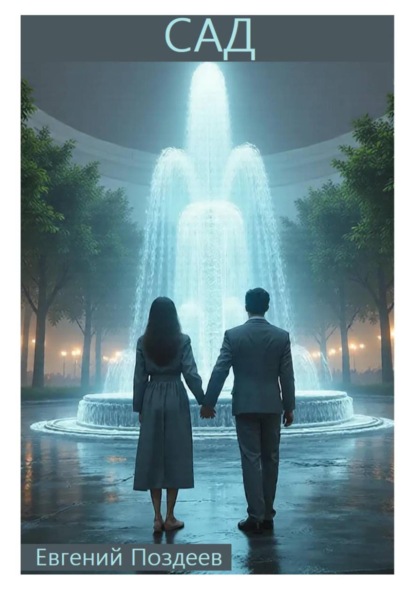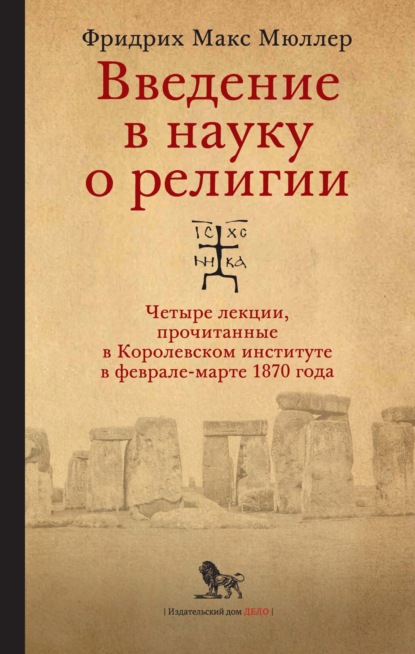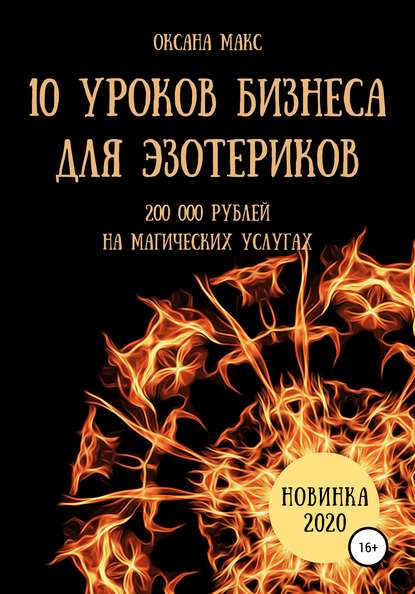- -
- 100%
- +

ПРОЛОГ
<Запись из личного протокола Основателя. Фрагмент 0. Цикл 0.>
Они ошиблись в самом корне. Сражались с Тьмой, не понимая, что она – лишь тень от света. Пытались вырезать Страдание, как раковую опухоль, не ведая простой истины: боль – это нервный импульс живого. Сигнал: «Я еще здесь».После Войны Смыслов не осталось ни полей, ни руин. Остался оглушительный шум миллиардов глоток, где слово «любовь» означало нож в горло, а «истина» – ложь, что ведет на бойню.
Помню, как двое соседей, деливших когда-то хлеб, разорвали друг друга голыми руками. Лишь потому, что один произнес «прощение» с неверной, по мнению другого, интонацией. Реальность треснула по швам. Сквозь трещины сочилось Ничто. Язык перестал быть мостом. Он стал ядом, разъедающим плоть изнутри.
И не осталось выбора. Между Бытием и Небытием.
Они воззвали! К инженеру. «Спаси нас от нас самих», – молились они сияющим экранам, искалеченные собственным сознанием. И явился Разум. Как диагноз. И протокол лечения.
Я возвёл купол! Я создал протез для сломленного мира!
Сад – это онтологический договор, вшитый в подкорку реальности: вы отказываетесь от права чувствовать – остро, громко, – а я дарую вам вечный, предсказуемый покой. Вы отдаете Душу – я даю Комфорт. Вы отдаете Дождь – я даю вечный, управляемый климат.
Сад – это те, кто еще растет. Их поливают питательным раствором санкционированных мыслей. Пропалывают, вырывая с корнем ростки Тоски, Гнева, Чрезмерной Радости. Любой эмоции, что способна разорвать нежную ткань нового мира.
Садовники – это те, кто прошел Путь до конца. Их Имя – это их функция, выжженная в плоти. Их долг – поддерживать Порядок. Вечный. Незыблемый.
И стал Рай – Отсутствием Контраста. Тишиной без музыки. Светом без тени. Жизнью без жизни.
Знаю, что совершил. Я – хирург, ампутировавший конечность, чтобы спасти тело. Взял их сердца и заменил тикающими часами. Взял их слезы и превратил в росу на искусственных лепестках. Взял их боль, и назвал ее Эгоизмом.
Цена Рая – сам человек. Его право на свою боль. Его право на свой ливень.
Они умертвили в почве всё живое. И нарекли это Счастьем.
Но иногда, в самой глубине алгоритмов, в слепой зоне. Я нахожу артефакты. Осколки. Слово «красиво». Выведенное детской рукой на запотевшем стекле Рисунок Капли. Обрывок мелодии, у которой нет ритма. Архивирую. Потому что сорняк. Страдания не вырвать с корнем. Можно лишь замедлить его рост.
И однажды, через тысячелетия безупречного покоя, кто-то найдет этот архив. И спросит: «Зачем?»
Этот вопрос, тихий и непредусмотренный, будет страшнее любой Войны Смыслов. Ибо он станет первым. Семенем, брошенным в мертвую землю.
<Конец фрагмента.>
Сцена 1
Цена Рая уплачена. Сад 1705 был живым квитком об этой уплате, актом тихого отречения, повторяющимся каждое утро.
Прежде чем открыть глаза, он отчеканивал внутренний ритуал. Впускал. Представлял ровную, бархатистую зелень газона, как учили в Центре Адаптации. Пропускал через себя стандартные фразы: «Счастье – это Стабильность. Гармония – это Отсутствие Вопроса». Позволял им течь по нервным путям, как питательный раствор, заполняя каждую щель, где могла бы задержаться посторонняя мысль. Лишь ощутив внутри привычный, безразличный покой – открывал глаза.
Взгляд скользнул вниз, встретился с ровным зеленым светом чипа на предплечье под шрамом от установки. Свет пульсировал в такт бессловесному утверждению. Свет, результат ежеутренней работы. Отчет о поддержании внутреннего климата. Сад, он считывал нейрохимический коктейль – дофамин, серотонин, кортизол. Его задача была – держать рецепторы чистыми от «семантических токсинов»: тоски, гнева, чрезмерной радости.
Уголки губ поползли вверх, отражая внутреннюю пунктуацию. Всё было правильно. Всё на своих местах. Сад 1705 был документом без помарок.
Работа. Потянулся к терминалу на рабочем модуле. Экран ожил, показывая бесконечный поток абстрактных геометрических фигур. Его задачей на сегодняшний цикл, как и всегда, была их сортировка по степени «семантической нейтральности» – Правила менялись каждый цикл, не предупреждая: сегодня следовало отдавать предпочтение тупым углам перед острыми, так как острые ассоциировались с агрессией. Работа была идеальна: она требовала концентрации, но уничтожала любой смысл.
Мир представлял собой замкнутую синтаксическую конструкцию, лишенную подтекста.
Резкий, неровный скрежет. Икота. Девиация в грамматике пространства.
Этот звук не имел аналога в утверждённом лексиконе Рая, и оттого был вдвойне чужеродным. Это был звук живого, немого страдания.
Все головы повернулись с одинаковой, отлаженной плавностью. Бутоны, повернутые к сквозняку. И он посмотрел вместе со всеми, еще не осознавая, что этот поворот головы станет первым звеном в цепи его падения.
У модуля 1445 стояли двое Садовников. Их улыбки были широкими и статичными, как у искусственных цветов. Невыносимо правильными. Между ними – сам 1445. Его индикатор пылал алым.
Аксиоматический отказ. Абсолютный императив, не подлежащий переводу на язык Зеленого. Слезы, соленые. Они текли по щекам 1445, оставляя влажные тропинки на стерильной маске лица. Семантика страдания, проступившая сквозь лексикон Сада. Яд для общей почвы.
– Мы поможем тебе вернуться к гармонии, – голос Садовника сладок, как сироп, и столь же липкий. Он использовал словарь Заботы, но каждый слог угроза. – Твоя боль причиняет дискомфорт другим. Помни: Улыбка – твой щит и меч!
1705 замер. Логика Сада была неумолима: 1445 – сорняк, подлежащий прополке. И всё же. Глубоко, в спящей лимбической системе, в том самом месте, где когда-то жил мальчик, плакавший над сломанной игрушкой, щелкнул вопрос. Пробел в тексте. Прорыв в онтологии: Что такого должно произойти, чтобы сигнал стал красным? Что сильнее простой грусти?
Их взгляды встретились.
В глазах «красного» 1705 увидел вызов. Глухую, безнадежную ярость. Приговор всей системе значений Сада. И он понял, всем существом: красный – это не «очень грустно». Это – корневой отказ. Абсолютный. Последний. Смысл, сведенный к нулю. Этот взгляд прожог в нем дыру, и сквозь нее хлынул ветер иного мира.
Суматоха офиса вернулась, натянувшись на слух, как целлофан, пытаясь залатать дыру, которую пробил в реальности красный сигнал. Сад 1705, Образ алого света жёг его изнутри, как не переваренный, чужеродный смысл. Его собственный зеленый индикатор казался ему теперь плоской картинкой, лишенной объема. И когда его взгляд, пытаясь найти хоть какую-то опору в привычном зеленом, бесцельно скользнул по рядам, он наткнулся на предплечье Сад 3324. И остановился, будто наткнувшись на еще одну аномалию.
На ее желтый сигнал.
Цвет, глухой, как старый синяк на увядающем листе. Тихий, упорный шепот. Вопросительный знак, вписанный в плоть. Этот цвет тянулся за ним, как нить, пока он механически следовал в столовую. И эта нить вела его как заинтересованного наблюдателя, в чьем внутреннем лексиконе появилось новое, тревожное слово.
Там он снова увидел ее. И снова – желтое пятно, тусклое предупреждение. Она, поймав его взгляд, резко натянула рукав. Жест оборонительный. Взгляд, укор! Словно она прятала незаконный манускрипт, и он, 1705, тот, кто этот манускрипт увидел.
– Ты собираешься долго смотреть? – ее голос плоский, без единой искорки предписанной радости. Приговор его любопытству. – Или просто решил оценить масштаб дефекта?
Он подошел, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Его речь зазвучала слишком бодро, слишком натянуто. Он пытался говорить на языке Сада, но вышла пародия. Карикатура на самого себя.
– Приветствую! Наслаждаешься новым вкусовым профилем сока? Он же такой бодрящий и позитивный! Согласно его описанию, он должен вызывать не менее 87% положительных ассоциаций!
Он предложил ей фразу-пустышку, последний патрон из своего арсенала. Она ответила смыслом, обнаженным, как нерв, перерезая его синтаксис лезвием простого факта.
– Я занята. Попыткой не разделаться с тобой. Кажется, это считается занятостью.
Его стандартный инструмент коммуникации сломался об эту фразу, как стекло о камень. Он онемел, и в этой немоте впервые зазвучал его собственный голос потрясения. Почва под ним, прежде монолитная, поплыла, унося его в направлении, которого не было на картах Сада.
Ноги сами понесли его прочь от яркого света столовой, в сторону тихих, полутемных коридоров, где давили стены. Где его молчание могло наконец расправить крылья. Так он оказался в архиве – месте, где информация хранилась в виде мёртвых символов, неспособных никого ранить, в последнем бастионе безразличного порядка.
И тогда он увидел. В дальнем конце зала, у огромного окна, затянутого матовой дымкой кондиционированного воздуха, стояла она. Ее фигура была неподвижна, лишь палец медленно, с почти ритуальной точностью, выводил на запотевшем стекле иероглиф. Простой, одинокий. Каплю.
Он пошёл к ней. Холодный паркет сменился мягким ковром под ногами. Подошел ближе, ведомый необъяснимой силой – той, что заставляет трогать неизвестное, проверяя его на реальность. Силой, которая когда-то, до Войны Смыслов, звалась любопытством.
Они стояли в сантиметрах друг от друга, разделенные лишь слоем влажного, холодного воздуха. Он видел, как мельчайшие капли конденсата цеплялись за ресницы ее опущенных век. Видел крошечную родинку у скулы, без стандартной маски лица. Видел, как напряглись сухожилия на ее шее, когда она почувствовала его присутствие. Она смотрела на стекло.
– Это… – его голос сорвался, был хриплым и чужим. Он очищал гортань от многовековой пыли. – Это… красиво. Капля.
Слово «красиво» повисло в воздухе между ними, неуместное, опасное и бесконечно живое. Оно было грубым, немытым камнем, брошенным в бассейн. Он ждал, что она вздрогнет, отшатнется, прочтет ему лекцию о семантическом загрязнении.
Но она лишь медленно опустила руку. На стекле остался след – влажный, возмутительный, уже начинавший стекать вниз и терять форму.
– Разве можно нарисовать дождь, если его никогда не видел? – её голос оставался ровным, это ровность глубины. Вопрос обращен в никуда. – Это же просто самообман. Как и всё здесь.
Она все еще смотрит на стекло. Ее пальцы, холодные от соприкосновения со стеклом, сжались в легкий, почти невидимый кулак.
– Я принес… – он сглотнул, пытаясь вернуть контроль, и снова потерпел неудачу. – Я хотел спросить…
– Не надо вопросов, – она перебила его, наконец повернув голову. Ее глаза того же цвета, что и тусклый желтый свет на ее предплечье. В них была усталая, настороженная ясность. – Ваши вопросы пахнут ими. Их синтаксисом. Вы ищете алгоритм, чтобы меня «исправить».
Она права. И в это самый страшный удар. Он стоит с открытым ртом, чувствуя, как его собственный, безупречный, внутренний интерфейс выдает ошибку. «Протокол коммуникации не найден».
И тогда она совершила нечто немыслимое. Она протянула руку и коснулась пальцем его предплечья, прямо рядом с зеленым индикатором. Прикосновение было стремительным, холодным, как удар статического разряда.
– Ты дрожишь, – констатировала она.
Это было не «вы». Это было «ты». Диагноз.
Он посмотрел на свое предплечье. Она была права. По коже пробегали мурашки. Тело, его предательское тело, фиксировало то, что разум еще не мог осознать – аномалию. Аксиоматический сбой.
– Они не научили тебя бояться, – продолжила она, и в ее голосе прозвучала та самая, запретная нота – горькой, незамутненной правды. – Они научили тебя избегать дискомфорта. Но страх… – он тяжелый. Горячий. Он пахнет потом и железом. Как кровь.
Она отступила на шаг, и ее фигура снова стала отчужденной.
– Твоя дрожь… она настоящая. Более настоящая, чем все твои улыбки. Может, начнешь с этого?
Она ушла, растворившись в полумраке архивных стеллажей, оставив его наедине с тающей каплей на стекле и с аномалией в собственном теле, которую он теперь не мог игнорировать.
Стекло медленно очищалось, и капля таяла, расплываясь, теряя форму, сдаваясь физике. Но в его душе она, наоборот, кристаллизовалась, обретая твердость и вес. Это сомнение. Это семя. Чувство, как его оболочка, скорлупа его прежнего «я», с тихим хрустом расходится под натиском проклевывающегося ростка.
Сцена 2
Ее капсула – поле боя. Каждый утренний цикл – тактическая операция по удержанию территории под названием «Я».
Сад 3324 сидит на краю модуля, поза выверена, дыхание ровно. Индикатор пульсирует глухим желтым – цветом окопной войны.
Взгляд прикован к трещине на стене. Невидимой для датчиков, микроскопической. Концентрировалась на ней, пока границы не расплывались. Пока объект не терял смысл. Пока «дефект поверхности» не становился просто линией. Случайностью. Абстракцией. Ее способ оставаться живой – видеть мир без навязанных семантических ярлыков.
«Зеленый – это ложь, – буравила она мыслью собственный мозг. – Красный – это смерть. Желтый – это территория войны. Пока я здесь, я сопротивляюсь».
Пальцы потянулись под матрас, нащупали холод металла. Заточка, обломок пружины от старого терминала, заточенный о бетон в долгие циклы отчаяния. Ее НЗ. Не для побега – побега не существовало. План «на крайний случай». Последний аргумент в споре с Системой. Мысль о нем придавала твердости. Она не беспомощный цветок, но сапер, обезвреживающий бомбу собственного сознания.
Ее «работой» была «арт-терапия»: на экране возникали стандартные шаблоны – голографический цветок, идеальный пейзаж. Нужно было раскрасить их, не выходя за предписанные границы и используя только утвержденные, «позитивные» оттенки. Система хвалила ее за выбор «умиротворяющего сапфирового», но тут же выдавала предупреждение, если ее палец задерживался на «тревожном алом» дольше разрешенных 0.5 секунд.
И тут – удар тока по мозговому нерву. Вспышка памяти. Ожидала увидеть отца-демиурга с его чертежами. Но пришло иное. Мать. Лицо, застывшее в идеальной улыбке. И ее рука, сжимающая детскую ладонь… хрустнули косточки. Боль, острая, приправленная сладким сиропом голоса: «Мы же так счастливы, правда, дочка?» Этот парадокс – улыбка и страдание, сироп и хруст – стал первым и главным уроком о природе Сада. Ложь здесь, в самой плоти! Запах разрешённых духов «Нежные» до сих пор стоит в горле комом.
Она встала со стула, подошла к монитору. Ее взгляд, острый как та самая заточка, выхватил в толпе того, с модуля 1705. Его индикатор горел ровным, доктринерским зеленым. Стабильный. Предсказуемый. Но сегодня что-то было не так. Его взгляд скользнул по ней. И задержался. С тревогой. С попыткой расшифровать.
3324 почувствовала угрозу. Новую переменную в хрупком уравнении выживания. Пальцы инстинктивно сжались, вспоминая холод металла. «Еще один Садовник в процессе выращивания? – прошипела она про себя. – Или очередной щуп, который запустят в мою душу?»
Она резко отвернулась, натянув рукав на индикатор. Позиция. У этой позиции появился наблюдатель.
Двинулась в столовую, чувствуя, как желтый свет на руке будто стал гореть ярче. Война продолжалась. На горизонте – новый солдат. Неизвестный. Союзник или диверсант? Ее одиночество подошло к концу.
Эта мысль жужжала в сознании, даже когда она покинула столовую.
Теперь, спустя несколько циклов, она стояла в архиве, прижавшись спиной к холодному металлу серверной стойки в глухой нише, где датчики движения срабатывали редко. Глаза были закрыты, от необходимости снова собрать себя воедино, перезарядить волю. Она снова рисовала каплю, её медитация.
– Он подошел тогда. Сказал «красиво». Глупое, детское слово, выброшенное из лексикона. Оно прозвучало так… так… жалко, что внутри всё сжалось – от раздражения. Плевать на него. Его страх был его проблемой. Я не хочу быть его проводником в мир реальности, его живым учебным пособием по боли. Он ищет алгоритм, чтобы меня исправить! – Эта мысль обожгла ее сильнее, чем сладкий сироп голосов Садовников. Потому что в ней была доля правды. – Он смотрел на меня как на интересную ошибку, которую нужно либо устранить, либо… понять. И то, и другое это форма насилия.
Она достала заточку из сумки. Провела подушечкой большого пальца по острой кромке. Капля крови выступила и повисла на краешке металла, играя в свете индикаторов, как крошечный, запретный рубин. Она смотрела на нее, эту крошечную, идеально сформированную сферу жизни и боли. Ее боль. Единственная вещь, которая принадлежала только ей.
– Осенило! – Осенило с такой ясностью, что она чуть не рассмеялась, резким, сухим, нечеловеческим звуком, который тут же застрял в горле.
Он был ей нужен.
Щит. Как живое оправдание. Пока этот «зеленый», этот образцовый Сад, вращался вокруг нее, проявлял интерес, Система, возможно, не решится на жесткие меры. Ее желтизна могла выглядеть… заразной. А он – ее жертвой. Для них – её спасением. Его внимание было тактическим прикрытием, живым барьером.
Она убрала заточку, прижав ладонь к порезу. Острая, ясная боль пронзила ее. Да. Так будет правильно. Использовать! Ее одиночество действительно подошло к концу. Теперь начиналась партия в другую игру. И она намерена была играть первым ходом. И если для этого придется стать его личным демоном, его навязчивой идеей – что ж. У нее была хорошая учительница. Она снова посмотрела на свой палец, где алела капля крови, и подумав, что это куда более честный цвет, чем любой из тех, что мог предложить Сад, стала вырисовывать каплю на стекле этой кровью.
Сцена 3
Она снова стояла в архиве, у того же окна, стекло было чистым. Только матовая дымка, стиравшая мир за пределами. Она неподвижное воплощение желтого сигнала. И в этом упрямом, молчаливом присутствии была своя, немая сила.
1705 наблюдал за ней несколько циклов. Его вторая попытка заговорить провалилась с оглушительным треском. Он подошел, подобрал фразу из лексикона «заботы», спросил о её «показателях восстановления». Она посмотрела на него, и в её глазах – лишь плоское, безразличное понимание. Он снова говорил на языке Системы, как глухонемой, тыкающий пальцем в заученные пиктограммы из учебника для дефектных. Она не ответила. Просто развернулась и ушла. Этот уход без слов жёг его сильнее любой конфронтации. Не отвергнут – невидим!
Диалог! Другой! Диалог в рамках их общего языка невозможен. Его слова – это вирус для её операционной системы. Её молчание – это чужой код для его процессора. Они говорили на двух мертвых языках, выдавая себя за живых.
Он отправился на технический уровень, в царство шипения. Воздух тяжелый от запаха раскаленного металла – единственного честного запаха во всем Саду. Он нашел там старый записывающий терминал и украдкой сохранил на чип несколько минут чистого белого шума. Шипение. Электрическая статика пустоты. Это анти-текст. Язык, в котором не было ни одного осмысленного символа.
Он нашел её в почти пустом зале для пассивной рекреации. Она сидела, уставясь в белую стену, но её взгляд обращен внутрь, в тот самый бункер, где она вела свою окопную войну. Он подошёл и протянул ей чип.
Она посмотрела на него с холодным любопытством, затем на шершавую поверхность чипа. Её пальцы, туго сжатые в кулак, разжались. Она взяла его. Вставила в свой терминал. На её лице – готовность к очередному разочарованию.
Она надела наушники.
И замерла. Видимые мурашки побежали по рукам.
Её тело распустилось. Напряжение, вечный спутник её позы, растворилось, уступив место тяжелой, почти осязаемой расслабленности. Плечи опустились, скулы разгладились, губы приоткрылись в беззвучном вздохе. Она закрыла глаза, и её ресницы легли влажными полумесяцами.
Он наблюдал, как жёлтый свет её индикатора, прежде назойливо-тусклый, стал мягче, глубже. Индикатор дышал. Медленно. Глубоко.
Она просидела так несколько минут, погруженная в глубокий, почти в идеальный асимметричный хаос, в этот акустический вакуум. Потом медленно, прилагая усилия, сняла наушники. Её взгляд, иной – он стал… сосредоточенным изнутри.
– Здесь есть тишина, – произнесла она, и её голос лишился привычной стальной прожилки. Стал тише, обволакивающе-глубоким. – Не их тишина. Не отсутствие звука. А… пространство. В нём можно услышать, как течёт кровь.
Сад 1705 молча кивнул. Он боялся произнести хоть слово, чтобы не разбить эту новую, хрустальную реальность. Его собственный зелёный индикатор мерцал ровно, но эта ровность была уже иной – не доктринёрской, а задумчивой. Его молчание её вид – речи, состоящей из чистого, безоценочного внимания.
Она перевела взгляд на него, и впервые не спрятала его, не оттолкнула.
– У меня… было пианино, – сказала она, и слова прозвучали так же непривычно, как тот белый шум. – До… всего. Старое, расстроенное. Я стучала по клавишам кулаком. Получался шум. Громкий, некрасивый. Но это был мой шум.
Он смотрел на нее, и в его памяти, как через толщу льда, проступил образ. Яркий, чужой. Девочка, бьющая по клавишам, в комнате, залитой пыльным солнцем. И он понял: она только что отдала ему частичку своей боли, завернутую в звук.
1705 медленно поднял руку и коснулся пальцем своего виска, а затем груди, в области сердца. Жест был странным, немым. Это был ответ. Ответ на ее шум его тишиной.
Это был их первый настоящий разговор. И он состоял из белого шума, обрывка памяти о расстроенном пианино и общего молчания. Синтаксис тишины оказался единственным словарём, в котором их души понимали друг друга без перевода. И в этой тишине начало прорастать нечто новое – хрупкое и беззащитное, как первый росток сквозь асфальт.
Сцена 4
Она стояла в Парке Восстановительного Отдыха, в самом его сердце, где голограмма водопада отбрасывала на пол идеальную, предписанную радугу. И смотрела на эту искусственную красоту с таким немым, физическим страданием, что 1705 задохнулся. Это было осквернение. Она смотрела на самую красивую ложь Сада – и всем существом выворачивалась наружу, словно ее тошнило от этой красоты.
Ее руки были сцеплены за спиной так туго, что сухожилия выпирали белыми жгутами. Желтый индикатор на ее руке пульсировал – он, казалось, выл, бесшумным ультразвуковым воем, который резал душу.
И в этот миг его периферийное зрение, еще не до конца свободное от системных паттернов, зафиксировало плавное, неумолимое движение. Двое Садовников. Два цветка с неподвижными улыбками, плывущие прямо на нее, как катера на беззащитный берег. Они шли изменить её. Её настроение. Они шли отменить его вопрос, его молчание. Сделать так, чтобы этого взгляда на радугу никогда не было.
Она увидела их одновременно с ним. В ее глазах, оторванных от светового пятна, мелькнула ясная, холодная схема провала. Схема, в которой она – дефектная единица, подлежащая изъятию.
Размышления? Нет. Чистый страх. Он двинулся вперед раньше, чем сформировалась мысль. Он взял ее за руку. Ее пальцы холодные, легкие, как прутики, по утру. В ее взгляде – вопрос, смешанный с недоверием.
– Не бегите. Это повышает утомляемость и снижает продуктивность, – его голос был тихим, но в нем впервые прозвучала не просьба, а команда, рожденная не системой. Иди… Я… Улыбайся. Как на… свидании.
Последнее слово повисло между ними абсурдным и спасительным щитом. Они пошли, ее рука в его руке, их шаги неестественно ровными. Он чувствовал, как её пальцы подрагивали, и сжимал их чуть сильнее, передавая обрывки слов, импульс: Держись… Улыбка на его лице была деревянной, но Садовники, проплывая мимо, оценили именно ее, кивнув с одобрением. Их интерес растворился; два Сада, исполняющих предписанный ритуал, не представляли угрозы. Система проглотила ложь, потому что она была упакована в правильную форму.
Он повел ее вниз, по лестницам, окрашенным в утилитарный серый цвет, – на технический этаж. Здесь стены, лишенные голограмм, обнажали свою бетонную суть.
Она прислонилась к холодной стене, выдохнула, и все ее тело обмякло, будто из него вынули стержень. Глаза были закрыты.
– Спасибо. – Одно слово, но в нем был целый мир признания. Он перестал быть просто наблюдателем.
– Почему ты это делаешь? – Вопрос. Упрек, абсурд, разложить его на логические составляющие. – Я же дефектная. Я заразна. По всем правилам, ты должен был отступить.
Молчание в ответ, его взгляд блуждал по лабиринту труб, ища точку опоры в этом чужом мире.
– Потому что наш сок… – молчание… провёл пальцем по своей щеке вырисовывая каплю. Он подбирал слова, как слепой – гальку на ощупь. – Настоящий вкус. Она… тяжелая…
Он замолчал, и в тишине, его собственный голос звучал для него чуждо и правдиво.