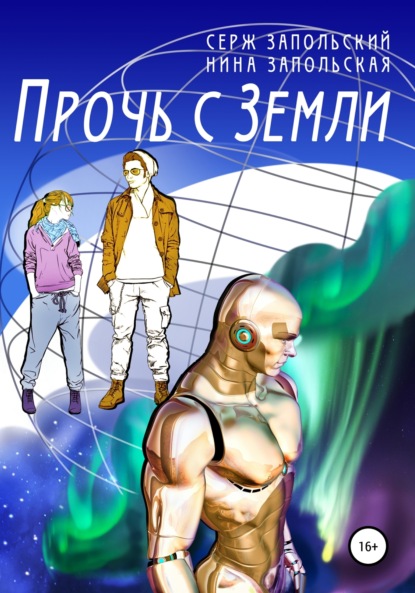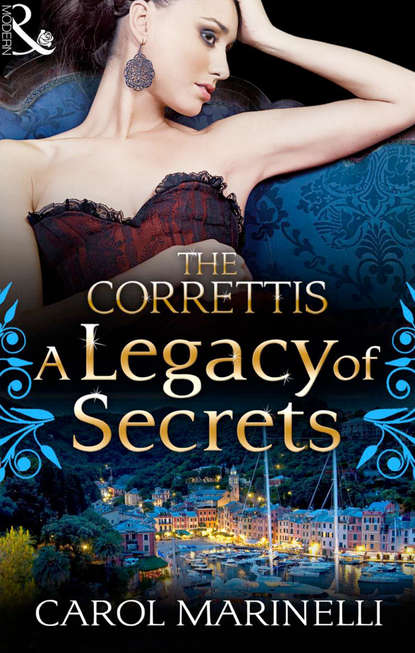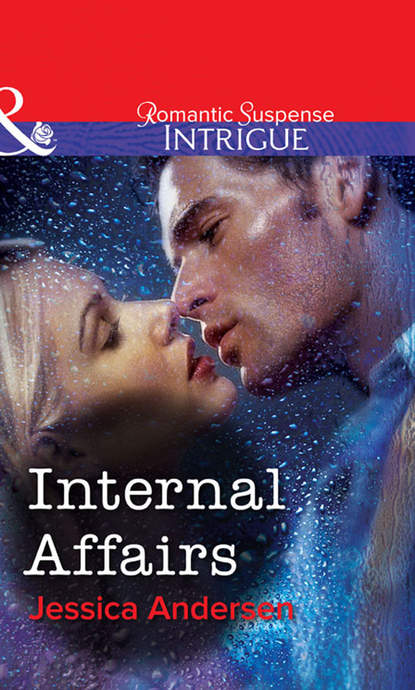Кунгурские зарисовки. Легенды Нижнего Поволжья. Дети войны
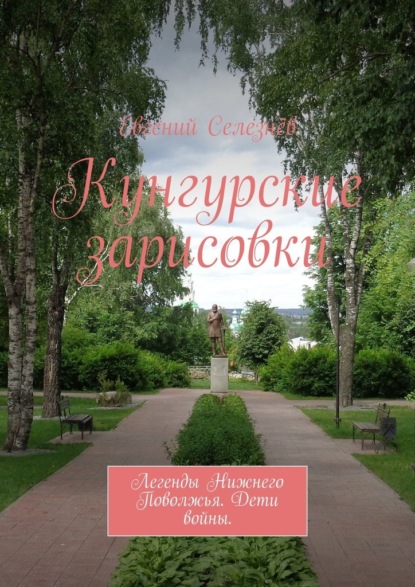
- -
- 100%
- +
Самым крупным благотворителем города Кунгур был купец Алексей Семёнович Губкин. Дав себе, ещё в юности обет – по копейке с каждого вырученного рубля отдавать Богу и бедноте, он всю свою жизнь соблюдал заведённое правило. Его стараниями и на его средства были открыты техническое училище, существующее и сейчас как автотранспортный колледж по адресу улица Просвещения 9, ранее улица Кожевенная, единственное в то время для всего восточного края европейской России и Западной Сибири. В память о своей рано скончавшейся дочери, учредил и содержал «Елизаветинский дом призрения бедных детей», где бедные девочки-сироты получали образование, а по выходу из приюта каждая получала небольшое приданное. Здание сохранилось до наших дней по адресу улица Ленина 79, ранее улица Успенская, до недавнего времени в нём располагалось педучилище города Кунгур.
В неурожайные по хлебу годы более шестисот семей бедняков, по желанию Губкина, в течение целого года получали хлеб бесплатно. Местные любители нажиться на чужом горе были вынуждены значительно понизить цены на хлебную продукцию. На этом его благотворительность не заканчивалась, им оплачивались различные награды и пособия для прилежных учеников и студентов. После его смерти, проститься с ним пришёл почти весь город, люди несли венки с надписью «Отцу сирот».
Каждый наш приезд в город Кунгур неизменно заканчивается посещением Всесвятской церкви на Ледяной горе и могил усопших родственников. После Указа от 24 декабря 1771 года Екатерины II о запрете производить погребения при городских церквях, за пределами города, кунгурскими купцами П. С. Фоминым и Ф. Л. Шмаковым была построена и освящена в июне 1847 года небольшая, но красивая Всесвятская церковь над Карасьим озером.
Длительное время здесь проводил службу настоятель Александр Ершов, человек отличавшийся умом, образованностью и обаянием, а после пострижения в монашество с именем Аркадий был возведён с сан архимандрита. Он вёл активную борьбу с обновленчеством, был ярым противником этого течения, за что не единожды и пострадал. На него писались клеветнические жалобы, а в июле 1936 года в Тихвинской церкви состоялся судебный процесс, на котором епископа Аркадия приговорили к восьми года лишения свободы и сослали в Красноярский край, где он и умер.
Последнее наше посещение города Кунгур было омрачено значительным запустением. Гостиный двор, закрытый от посторонних глаз нарисованным баннером, выглядит как мертвец посреди площади, а ведь совсем недавно мы с интересом обходили его торговые лавочки и магазины, где приобретали необходимые нам товары. Историческое здание должно использоваться по назначению, тем более такое уникальное на всём Западном Урале. Почему-то современные купцы-предприниматели совершенно не торопятся заниматься благотворительностью для повышения туристической привлекательности родного города. Больше туристов – больше товара они приобретут на экскурсиях по городу, а показать им пока есть что.
Радует возрождение и использование по назначению Православных храмов и церквей. Вполне прилично смотрятся новые скверы и парки. Ставшая пешеходной улица Карла Маркса заняла достойное место на туристической карте города. Сквер у самовара и сквер воздухоплавателей отлично привлекают гостей города. «Гончарная лавка» и лавка «Кунгурские сладости» у городского парка – это настоящий рай для любителей сувениров и кунгурских медовых пряников.
Но заметны и значительные негативные изменения в городе. Одно из них это значительное уменьшение в городе промышленных предприятий, то есть отсутствие достойной работы для жителей города. Знаменитый Кунгурский Машиностроительный завод, продукцией которого были буровые установки для геологоразведки, распилен на металл и разрушен до основания. Когда-то здесь трудились целыми трудовыми династиями местные жители.
Красивое здание Дома культуры машиностроителей, где несколько поколений работников занимались в различных кружках и секциях, было уничтожено до основания, а на месте его возведено совершенно безликое здание, по словам местных жителей больше напоминающее «Склеп царя Соломона». С другой стороны от бывшего центрального входа по улице Карла Маркса, выходящей на улицу Ленина, возвели огромный корпус сетевого супермаркета «Магнит».
Теперь от кожевенного производства и клуба остались одни воспоминания, да ещё памятник обувщикам в парке. Клуб разрушен до основания и канул в Лету.
Постепенно уходит в прошлое всё ещё красивый старый купеческий город Кунгур. Ветшают постройки, меняется облик самих улиц и площадей. Где-то становится лучше и чище, где-то врастает в землю и тихо разваливается история города. Он как древний старик, на которого надели новое пальто и модные сапоги, а сил продолжить дорогу уже не хватает.
Уезжает из города молодая кровь в большие города, в областные центры, а без неё город постепенно умирает. Умирает без новых школ, без новых училищ, техникумов, без доходного машиностроительного или любого другого производства. Умирают и реки, когда-то несущие на своих водах пароходы, речные трамвайчики и грузовые баржи, постепенно мелея, заболачиваясь. Умирает, как и большинство малых городов России, из которых вымываются молодые, перспективные люди денежными потоками в областные центры и столицы.
♦ КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ ♦

За окном вагона мелькают ночные огни, с грохотом проносятся встречные поезда. Мы уже сутки едем в поезде на Средний Урал. Медленно меняется за окном и окружающая природа. Вначале нашего путешествия – это бескрайняя степь с редкими посадками кустарников, основу которых составляет карагач и лох серебристый. Чем дальше от Волгограда, тем более разнообразен окружающий ландшафт.
Вот уже попадаются небольшие рощицы смешанного леса, первые берёзы и посадки клёна, далее среди берёз можно заметить редкие дубы, а вот уже за окном и целые дубравы. При появлении первых холмов, по их склонам как часовые стоят молодые сосны. Ближе к Сызрани лесной покров становится гуще, поезд несётся по зелёному коридору, образованному зарослями сосен, берёз и дубов.
По скалам первых уральских отрогов, затянутым со стороны железной дороги металлической панцирной сеткой, попадаются ели, заросли которых становятся всё гуще и гуще. Наш поезд быстро проносится мимо старых, полуразрушенных станционных построек бывших разъездов и полустанков.
В плацкартном вагоне чисто и прохладно, тихонько позвякивают ложечки об край гранёных стаканов, вставленных в фирменные подстаканники. За время поездки меняются и наши попутчики. Это и капитан дальнего плавания едущий, после длительного рейса, домой, это и волонтёр студентка Башкирского Государственного университета.
В Самаре шумной толпой погрузились футболисты молодёжной команды в сопровождении своих подруг. Теперь понятно, почему наш футбол в пролёте. Ещё играть толком не научились, но уже устроили в вагоне пьяный ночной дебош – проводнице, после неоднократных увещеваний распоясавшихся «футболистов», пришлось вызывать охрану поезда. После этого вся команда сидела тихо до самого Челябинска.
После Уфы количество пассажиров в вагоне сильно уменьшилось, следующая ночь прошла без шумных попутчиков. Ранним утром мы прибыли на станцию старинного купеческого города Кунгур. По сравнению с Астраханской областью здесь довольно прохладно и зябко.
На небе переменная облачность, временами выглядывает солнышко, но прогноз обещает после обеда дождь. Дождь здесь лил уже целую неделю, но из-за особенностей грунта луж совсем немного, так что мы без труда добрались до квартиры наших родственников.
Очевидно, что-то перепутав, нас тут ждали только через сутки, поэтому наш приезд вызвал некоторую суету и небольшой переполох. Мы же, пока позволяет погода решили, не откладывая в долгий ящик, пройтись по городу и посмотреть его достопримечательности.
Мне нравится бродить по этому городу с богатой историей в прошлом, много знаменитых и уважаемых людей родом отсюда. Проживают здесь и потомки выходцев со Слобожанщины, которые с войском Ермака переселились на Урал, а не как мои предки на Волгу.
Проходя по городским улицам Кунгура, рассматриваю старинные купеческие дома, в которых до сих пор живут люди. Дома ещё в приличном, ухоженном состоянии, с болью вспоминаю руины точно таких же купеческих домов в Капустином Яре, угробленных равнодушием и безразличием местной власти. В Кунгуре почему-то они сохранились и на многих видны следы свежего ремонта, видимо деньги на их содержание местная администрация находит. Видимо эта традиция была заложена ещё первыми поселенцами, купцами и меценатами города Кунгур.
Нам посоветовали посетить местные музеи, намекнув на то, что там имеются интересные экспонаты. Кунгурские купцы вели своё дело не только в пределах Российской империи, активно велась торговля с далёким Китаем, где приобретались различные товары и поставлялись туда товары местных производств. Советовали обязательно не обойти вниманием и посмотреть представленный в музее китайский сервиз, узнать необычную историю его обретения.
С огромным любопытством посетили Музей истории купечества, основанный в 2007 году в красивейшем историческом здании Малого гостиного двора, которое построил в 1874 году купец М. И. Грибушин. Вначале это здание имело двенадцать входов, вся его территория была поделена на двенадцать арендных лавок, где торговали сахаром, чаем и сопутствующей чайной церемонии товаром.
Проходивший через город Кунгур Большой Сибирский тракт, соединяющий центральные районы Российской империи с Дальним Востоком, способствовал развитию торговли и производства. С давних пор в Кунгуре было развито кожевенное производство, здесь освоили выделку шкур, снабжали всю Россию красной юфтью, отправляли в Китай сафьян. Местные мастера шили сапоги, коты, ботинки и башмаки, тонкие гетры и элегантные гусарики, изготавливали кожаные саквояжи, а из обрезков шили рукавицы и перчатки, толстые кожи шли на шорный товар.
Кожевенное производство благополучно пережило ряд революций, коллективизацию и войны, но не смогло пережить перестройку – было разрушено до основания. Даже вместо красивейшего Дома культуры Машиностроителей построили какой-то безликий сарай, больше напоминающий склеп. Клуб обувщиков вообще канул в Лету.
Когда-то огромным кожевенным предприятием с историей, начиная с 1793 года, были заводы владельцев В.Е.Фоминского и Л. И. Сартакова. Их мастера могли выделывать чёрные и белые кожи, шагреневые, лакированные и замшевые. Из них изготавливали, в том числе и модельную женскую обувь, которую хорошо продавали на ярмарках по городам России.
Распродав товары кожевенного производства, купцы везли из Китая огромные партии чая. Чтобы китайский чай стал популярным, а главное доступным для простых людей, купец Алексей Губкин в 1840 году открыл свою фирму, имевшую чаеразвесочное оборудование и торговавшую чаем.
Имея товарооборот более 6 миллионов рублей, Губкин не прятал их в мошне или за границей, а занимался общественной деятельностью и благотворительностью. Так в неурожайном 1877 году целый год более 600 кунгурских семей получали бесплатно хлеб закупленный Губкиным. Кроме того, в этот же год он основал первое на Урале техническое училище, потратив на это больше миллиона из личных средств.
В память о своей умершей четырёхлетней дочери Лизе, основал Кунгурский Елизаветинский Дом призрения для маленьких девочек-сирот из беднейших слоёв населения. Чтобы обеспечить содержание этого дома и в дальнейшем обеспечить выпускниц небольшим приданным, Губкин положил в банк на счёт этого заведения значительную сумму, проценты с вклада служили источником средств на нужды Дома призрения.
По заложенной традиции, меценатством продолжили заниматься наследники и потомки Губкина. Его внук – Александр Григорьевич Кузнецов продолжил чайное дело деда, реформировал в торговый дом, а затем в Товарищество по продаже цейлонских чаёв. Его магазины были открыты во всех крупных городах Российской империи и за рубежом.
Созданное Товарищество, председателем которого, за длительную и верную службу приказчиком у А. С. Губкина, был избран А. Е. Владимиров, располагало заводом по производству прессованных чаёв в городе Ханькоу непосредственно в Китае. Их торговые агенты жили и прудились на благо Товарищества во многих китайских городах и на острове Цейлон.
Кроме Губкина, торговавшие сахаром и чаем знаменитые купцы Грибушин, Пономарёв и Кузнецов открыли свои конторы по всему Китаю и в Лондоне, большие партии чая закупались прямо с плантаций и на лондонском чайном рынке. Там же приобретались и сопутствующие товары, такие как столовые приборы и чайные сервизы из китайского фарфора.
В Кунгуре есть красивейший Свято-Никольский собор, он построен Кузнецовым над могилой своего деда А. С. Губкина. На средства Кузнецова издавались книги, строились биологические станции в Севастополе и Виллафранке (Италия), возводились храмы по всей империи.
Во время летнего отдыха мы посетили Форосский храм Воскресения Христова на Красной скале и обнаружили там небольшой памятник гласящий, что этот храм возведён стараниями и на средства Александра Григорьевича Кузнецова. Оказывается, Кузнецов купил в Крыму в небольшой деревне Форос участок земли, куда организовал проведение телефонной и телеграфной связи, электричества, построил там небольшой, но роскошный усадебный дворец, создал при нём Форосский парк, возвёл рядом пристань, что послужило толчком для развития всего Фороса. Именно в этом дворце отсиживался печально известный Горбачёв.
Экспозиция Музея истории кунгурского купечества занимает немного места – всего один, протяжённый зал, да и экспонатов не слишком много, но сохранена доброжелательная, уютная атмосфера. Особенно запомнился один из экспонатов выставки – китайский фарфоровый сервиз, особенно его история находки.
Что такое фарфор? Это особый вид керамики, который делают из смеси белой глины, кварца, полевого шпата и нескольких других компонентов. Когда эту смесь обжигают при высокой температуре, она становится белой, как снег, и немного прозрачной, при этом очень прочной и не пропускающей воду. Поэтому, с давних пор, его используют для изготовления столовой и чайной посуды.
По преданию, история фарфора берёт своё начало с древнего Китая, где мастера создали из белой глины уникальный материал под названием «порцелин». Это ещё не настоящий фарфор, а его несовершенная версия, содержащая в своём составе железо, из-за которого изделия имели оттенок от блёклого серого цвета до коричневого оттенка. Да и обжигались изделия из глины при довольно низкой температуре, что сказывалось на прочности и полупрозрачности готового изделия.
Повышая своё мастерство, постоянно экспериментируя, китайские мастера постепенно усовершенствовали технологию изготовления фарфоровых изделий. Сформировав пять центров мастерства по изготовлению гончарных изделий, где применяли восемь уникальных систем обжига, получали столько же видов фарфора.
Одним из них считают довольно редкий и ценный вид – жуяо, который получали в специальных высокотемпературных печах. Сразу после обжига китайские мастера покрывали ещё горячее изделие небесно-голубой глазурью, при этом, чтобы изделие не прилипало к поверхности подставки, у него нижнюю часть оставляли без покрытия. Сейчас эта технология давно утеряна, поэтому оставшиеся изделия имеют баснословную цену и хранятся только в запасниках музеев и в частных коллекциях.
Другие изделия этого периода времени, изготовленные по другим технологиям, отличаются однотонностью фарфора чёрного, белого, пурпурного, синего и других цветов. Отличительной чертой мастеров города Цзиндэчжэнь являются фарфоровые изделия белого полупрозрачного фарфора, этому способствовали залежи в этом районе качественной белой глины.
Эта белоснежная посуда хорошо подходила для декорирования, поэтому широкое распространение получила роспись по фарфору. Расписную посуду с большим удовольствием покупали на рынке, даже по более высокой цене. Активная торговля с Персией, откуда купцы привозили кобальт, послужила зарождению производства знаменитого сине-белого фарфора.
По знаменитому Шёлковому пути купцы из разных стран активно экспортировали ещё один вид изделий из фарфора – селадон, изделия с характерным ярко-зелёным цветом глазури. По поверью считалось, что если положить в такую посуду отравленную пищу, то посуда изменит свой цвет, что было очень актуально в период феодальных разборок в странах того времени.
Культурный обмен между странами способствовал изменению китайских сюжетов изображаемых на фарфоровой посуде. Так, иранские мастера стали украшать фарфоровые изделия сюжетами из китайской мифологии, изображая на поверхности керамики китайских драконов и мифических птиц феникс.
Турецкие мастера живописи украшали фарфоровую посуду орнаментами в виде цветов, растений или геометрическими мотивами с арабской вязью. Это была в основном фарфоровая посуда турецкого сине-белого цвета.
Привёзший впервые в Европу фарфоровую посуду великий путешественник Марко Поло, стал первым проводником проникновения китайской культуры. Редкость и высокая стоимость фарфоровых изделий быстро стали символом высокого статуса местной аристократии. Европу буквально охватила настоящая «фарфоровая лихорадка». Заказчики отправляли китайским мастерам эскизы библейских сюжетов, фамильные гербы, сюжеты мифов Древней Греции, платили за это баснословные деньги.
Уже тогда европейские мастера пытались разгадать секрет китайского фарфора. Поворотным моментом для европейской истории производства фарфора стало открытие каолина – ключевого компонента, придающего изделиям из фарфора ту самую знаменитую прочность. Лишь в самом начале восемнадцатого века немецкий алхимик Иоганн Бёттгер разгадал секрет китайского фарфора, и в Саксонии, где жил Беттгер, появилась Мейсенская мануфактура.
Моду на изделия из фарфора в Россию принёс Петр I после своего путешествия по Европе. Император загорелся идеей наладить производство изделий из фарфора в стране. Однако изготовители хранили рецепт в секрете. России приходилось импортировать фарфор большими партиями, как из европейских стран, так и из Китая.
Лишь во времена правления императрицы Елизаветы Петровны, химик Дмитрий Виноградов, ученик и друг Михаила Ломоносова, после возвращения из Европы создал свой уникальный состав, после чего началась история русского фарфора. Уже к середине восемнадцатого века в Санкт-Петербурге были получены первые качественные образцы фарфоровой посуды.
Вскоре на производстве, названном Императорский фарфоровый завод, начался выпуск посуды, табакерок, ваз различного назначения и декоративных фигурок. Изделия этого завода пользовались огромным спросом не только в России, но и за её пределами. Буквально через несколько лет, по всей России, где находили залежи пригодного сырья, стали строить фарфоровые заводы, на которых выпускали не только отдельные виды посуды, но и целые сервизы, состоящие от нескольких сотен, до полутора тысяч предметов.
К середине девятнадцатого века в России, кроме Императорского завода, производили фарфоровую посуду мануфактура Франца Гарднера, после его смерти куплена Матвеем Кузнецовым и преобразовано в «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий» М. С. Кузнецова. История кузнецовского фарфора начинается с фарфорового производства в районе Гжели, организованного купцом Я. В. Кузнецовым. Его сын – купец Терентий, заручившись опытом отца, основал фарфоровый завод в пустоши Дулёво, также вошедшее впоследствии в «Товарищество…» Матвея Сидоровича Кузнецова.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.