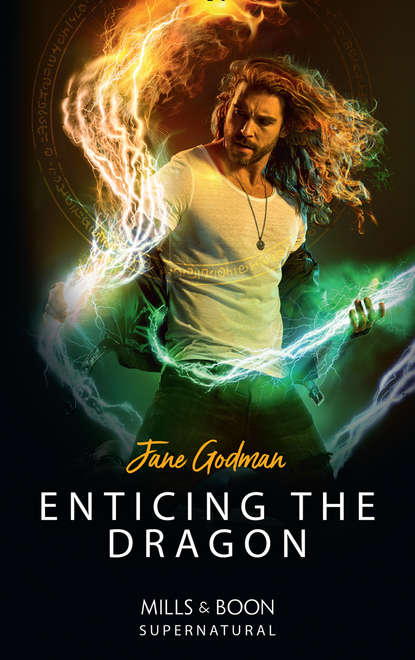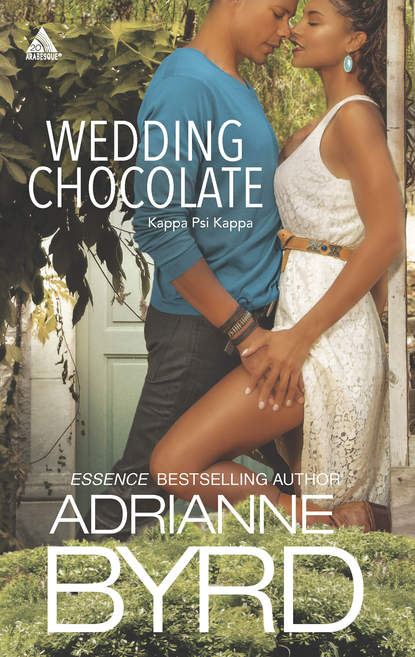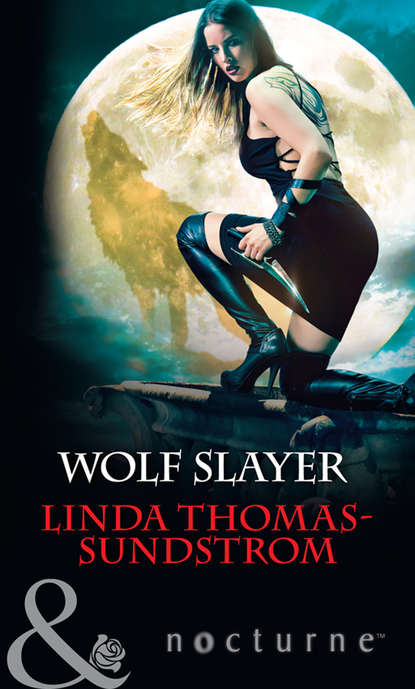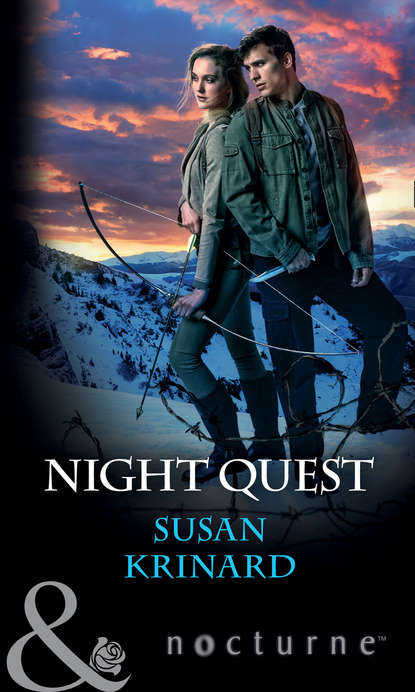- -
- 100%
- +
– У меня двое детей, стабильная работа, всё в порядке, – произнесла она с лёгкой улыбкой. – Но у меня панические атаки. И усталость такая, что я иногда думаю: если лягу, то уже не встану.
Я слушала. Под спокойным тоном чувствовалась сталь. Не та, что придаёт силу, а та, что держит человека, как корсет, не позволяя дышать.
– Когда у тебя впервые появилось ощущение, что ты тащишь слишком много? – спросила я.
Анна замерла. В её лице что-то изменилось: улыбка исчезла, губы дрогнули.
– Наверное, в детстве. Мне было лет десять. Мама плакала на кухне, я вставала рядом и говорила: «Я справлюсь. Я всё сделаю». Тогда я решила: если я не возьму на себя – всё рухнет.
Она замолчала. В этом признании не было жалобы. Только усталость.
Каждую сессию мы возвращались к её телу. Когда Анна рассказывала о работе – её плечи напрягались так, будто она держала на них мешки. Когда говорила о матери – её голос становился жёстким, чужим для её возраста. В этих жестах и звуках проступала правда: Анна с детства была «матерью» своей матери.
Мы постепенно спускались глубже. Сначала через воспоминания: как мать жаловалась на жизнь, как отец отстранялся, как она, маленькая девочка, бежала готовить ужин или помогала делать уборку. Потом через телесные ощущения: ком в горле, дрожь в ногах, холод в животе.
Однажды, когда мы коснулись этой роли напрямую, её лицо побледнело.
– Если я отпущу, всё развалится, – прошептала она. – Я боюсь даже подумать об этом.
Я спросила:
– А если за тобой кто-то есть?
Эти слова прозвучали тихо, но будто прорезали воздух. Она смотрела на меня долго, словно впервые пыталась представить: что, если за её спиной есть сила, а не только пустота.
Перед внутренним взором вставали картины. Деревня шестидесятых годов: маленький дом, мать Анны ещё девочка, босая, с косичкой, бежит за водой, потому что старших нет. Мужчины ушли на заработки, женщины тащат хозяйство, дети взрослеют в десять лет. И вот эта линия проходит сквозь поколения: матери, которые не выдерживали, дочери, которые вставали вместо них, семьи, где всё держалось на детских плечах.
Анна впервые позволила себе чуть откинуться назад в кресле. Это было почти незаметно, но тело словно сказало: «Я хочу опоры». В тот момент в её глазах появилась растерянность.
– Мне непривычно, – тихо произнесла она. – Как будто у меня есть спина.
Через месяц она пришла и сказала:
– Я впервые почувствовала, что не обязана тащить всех. Что я могу быть дочерью.
Её осанка изменилась: плечи опустились, дыхание стало глубже. Она всё ещё училась этому новому положению в системе, как человек, который впервые снял тяжёлый рюкзак и не знает, что делать с пустыми руками. Но это было начало.
Потому что иерархия в семье – это не формальность. Это невидимый порядок, который держит нас изнутри. Когда ребёнок становится «родителем» для своего родителя, нарушается не только связь – нарушается сама логика жизни. И человек несёт груз, который ему не принадлежит. Освобождение приходит не тогда, когда он перестаёт любить, а когда возвращается на своё место: быть дочерью для матери, матерью для своих детей, а не для всей семьи разом.
Когда человек возвращается на своё место в системе – младший за старшими, ребёнок за родителями, внук за бабушками и дедушками – в теле появляется вес. Не груз, а ощущение плотности, устойчивости. Пространство внутри разворачивается. Воздуха становится больше. Исчезает привычная тревога. И как будто кто-то невидимый встаёт за спиной.
Это знание – не в голове. Это ощущение, которое живёт в теле. Внутренний ритм, который восстанавливается, когда порядок возвращается. Даже у подростков – я видела, как юноша метался по расстановке, не зная, где ему встать. То к матери, то к отцу, то куда-то вбок. Он никак не мог успокоиться. И только когда фигуры старших чётко встали позади и он занял своё место перед ними – всё внутри встало на свои места. Он выпрямился и просто замер. Без слов, без напряжения. Тело нашло опору.
А ведь именно тело – самое честное. Когда в системе есть нарушенный порядок, оно реагирует первым. Появляется тревога при виде денег. Сжимается живот, когда нужно назвать стоимость своей работы. Возникает неуверенность в самых простых действиях. Или наоборот – необъяснимая эйфория при тратах, за которой неизбежно приходит вина. Все эти телесные сигналы – напоминание: ты не на своём месте, что-то не так в потоке.
Иногда нарушенный порядок связан с тем, кого в роду забыли или исключили. Это может быть умерший ребёнок, аборт, репрессированный родственник, тот, чьё имя было под запретом. Или кто-то, кого осуждали. В таких случаях младшие, сами того не осознавая, встают на место этих забытых. Как будто интуитивно тянутся туда, где образовалась пустота. И начинают жить чужую жизнь. Нести не свою судьбу.
Так жила клиентка, которая приходила ко мне с темой финансов. Деньги к ней приходили, но не оставались. Сразу уходили: на помощь, на подарки, на спасение кого-то. За этим стояло не щедрое сердце, а глубинное чувство вины. В расстановке проявилась история: её тётя, погибшая в молодости, чья жизнь была трагична и незавершённа. О ней почти не говорили, но клиентка будто жила вместо неё. Старалась вернуть то, чего та не успела. Даже своё право на деньги будто отдавала обратно. Только после того, как мы признали эту фигуру, вернули ей место, отдали уважение – поток стал меняться. У клиентки появилось новое чувство: «Мне можно. Просто можно».
Я всё чаще думаю: мы теряем деньги не потому, что плохо работаем. И не потому, что не умеем обращаться с ними. Мы их теряем, когда внутри нет ясности, кто мы и где наше место. Когда идём вперёд, оглядываясь назад. Или стоим как вкопанные, потому что боимся обогнать тех, кто страдал. А порядок – он не унижает, он восстанавливает дыхание. Когда я младший – я могу расти. Когда я не вместо – я могу жить свою жизнь. А когда я на месте – деньги начинают приходить туда, где им рады.
Попробуйте почувствовать это прямо сейчас. Закройте глаза. Представьте, что за вами – ваши родители. А за ними – их родители. И ещё дальше – весь ваш род, строй за строем. Не важно, знаете ли вы их поимённо. Просто допустите: они есть. Скажите им мысленно: «Вы старшие, я младший. Я не иду вместо. Я иду дальше. Благодаря вам». И сделайте один маленький шаг вперёд. Позвольте себе почувствовать, каково это – встать на своё место.
Иногда этого шага достаточно, чтобы внутри стало тише. Чтобы перестать бежать. Чтобы вернуть себе право жить, брать, быть в силе. А деньги… они сами находят путь туда, где всё течёт в своём порядке. Где есть начало, течение и возможность двигаться дальше.
Мы редко задумываемся о том, как много в нашей жизни определяется местом. Кажется, что главное – усилия, знания, цели. Но в глубинной системе рода самое важное – встать туда, где ты по праву должен быть. Не раньше, не выше, не вместо. А именно туда, где твоя сила соединяется с их опытом. Где ты не один. Где за спиной – не пустота, а история, которая тебя держит.
Когда это место найдено, всё начинает течь иначе. Деньги становятся не компенсацией за боль, не способом выживания, не доказательством своей нужности. Они становятся потоком, который поддерживает твою жизнь. Потому что ты на своём месте. А значит, можешь идти вперёд.
И тогда каждый шаг становится легче. Не потому, что стало меньше работы. А потому, что ты больше не идёшь против течения.
Упражнение:«Моё место в роду»Найдите тихое место. Встаньте. Почувствуйте стопы на полу. Сделайте несколько глубоких вдохов.
Представьте, что за вашей спиной стоят ваши родители. А за ними – их родители. И дальше – поколение за поколением. Как если бы за вами стояла длинная колонна людей. Молчаливая, сильная, несущая память и силу.
Спросите себя: «Где я сейчас? Я стою как потомок? Или занял место кого-то из них? Пытаюсь быть опорой тем, от кого сам пришёл?»
Сделайте мысленно шаг назад. Или шаг в сторону – туда, где вы чувствуете: «Вот здесь – моё место». Скажите про себя: «Я маленький (ая). А вы большие. Вы даёте. Я беру».
Позвольте себе просто постоять там. Почувствуйте, как меняются ваше дыхание, состояние тела, эмоциональный фон. Возможно, вы ощутите облегчение. Или покой. Или тепло. Это знак, что поток начал восстанавливаться.
Это простое упражнение возвращает нам не просто ощущение порядка. Оно даёт право жить – и получать. А значит, и деньги снова начинают приходить – как вода, вернувшаяся в русло.
Глава 3. Закон принадлежности: у каждого есть право быть
Виктория зашла в комнату с той сдержанностью, в которой всегда угадывается напряжение. На лице – почти безупречное спокойствие, тонкие губы сжаты, глаза устремлены в пол, но видно: в глубине прячется застарелая усталость. Как будто долго-долго она несла в себе что-то, о чём никто не знал. Её тело говорило то, чего не решались сказать слова: внутренняя зажатость, стремление быть правильной, страх позволить себе расслабиться хотя бы на секунду.
– Я всё сделала сама, – сказала она. – Построила клинику, собрала команду, мне доверяют пациенты, у меня запись на месяцы вперёд. Все говорят: «Ты молодец». А я будто снаружи. Будто наблюдаю за своей жизнью, но не живу её. Знаете, как это? Когда ты достигаешь – и в ту же секунду чувствуешь, что это всё не по-настоящему. Как будто… не заслужила. Как будто я не там, где должна быть.
Она говорила спокойно, без надрыва, но от этого в её словах было даже больше боли. Спокойствие, за которым стояла привычка к одиночеству. Так живут те, кто давно научился не надеяться, что кто-то услышит.
Мы стали вспоминать её семью. Она говорила о матери – требовательной, колкой, часто жестокой в словах. О бабушке – строгой и молчаливой. И вдруг, будто между делом, обронила:
– У бабушки была сестра.
Когда я спросила, почему она не вспоминает её, Виктория пожала плечами:
– Говорят, в войну её посадили. Потом она где-то жила, но бабушка говорила: «Для меня её нет».
После этого – тишина. Как будто в комнате стало холоднее. Как будто эта фраза, сказанная десятилетия назад, до сих пор дрожала в воздухе: «Для меня её нет». И что-то в этом «нет» будто передавалось по наследству: ощущение, что и самой Виктории где-то не было.
Она посмотрела на меня, и в её взгляде впервые появилась уязвимость.
– Я правда не знаю, каково это – быть на своём месте. Иногда мне кажется, что я просто держу чей-то пост. Что если я оступлюсь – всё рухнет. И в то же время – будто я никому не нужна. Будто во мне чего-то не хватает.
Я видела это много раз. Когда из памяти рода вычёркивается кто-то – из-за стыда, боли, страха – в системе остаётся дыра. Невидимая, но ощутимая. В неё уходит чувство ценности, доверие к жизни, ощущение, что можно просто быть. И тогда те, кто приходит позже, пытаются эту дыру закрыть собой.
Они становятся слишком хорошими. Слишком правильными. Или наоборот – теряют себя, словно живут в чьей-то тени. Деньги утекают, отношения не складываются, тело болеет, а внутри – ощущение чужого груза. И никто не говорит прямо, что происходит, но где-то в глубине живёт фраза: «Тебе нельзя быть».
Иногда это «нельзя» звучит в форме постоянного сомнения. Или в том, что человек не решается тратить деньги на себя – как будто не заслуживает. Иногда – в замирании перед успехом, в ощущении, что нечто плохое обязательно должно случиться после хорошего. А иногда – в том, что человек бессознательно избегает радости. Потому что когда-то в семье радость обернулась трагедией.
Мужчина, который пришёл на сессию, выглядел уверенным: крепкое рукопожатие, дорогие часы, чёткие формулировки. Но за этим фасадом чувствовалось что-то иное: руки слегка дрожали, дыхание было неровным. Он признался:
– Каждый раз, когда начинаю зарабатывать больше, словно потолок над головой рушится. Ночью просыпаюсь в холодном поту. Днём будто кто-то сжимает горло. Я не понимаю, чего боюсь.
Мы начали исследовать его историю. Сначала – его собственную жизнь: отец-инженер, мать – учительница, спокойное детство, никаких видимых травм. Но за этим спокойствием всегда чувствовалась тень.
Я спросила:
– Ты помнишь истории про своих дедов?
Он пожал плечами:
– Мало. В семье редко вспоминали. Один дед погиб на войне. Другого… про него не говорили. Только бабушка иногда плакала ночами.
Мы углубились. И постепенно выплыл образ: дед, которого не просто «не вспоминали» – его как будто вычеркнули.
Это был не военный дезертир и не предатель. Он был обычным крестьянином из западной деревни, которую в 41-м быстро заняли немцы. Когда пришли оккупанты, мужчин собрали на площади. Кого-то забрали в полицаи, кого-то угнали на работы, а кого-то – просто увели. Дед моего клиента попал в эту категорию: его обвинили в том, что он «помогал красным». На самом деле он носил еду в лес партизанам. Сосед видел – и донёс.
И вот лето 42-го. Немцы ведут его по деревне. Не как военнопленного, не как солдата, а как «своего же», которого поймали на помощи партизанам. В глазах односельчан это выглядело двусмысленно: одни знали правду и боялись хоть как-то выразить поддержку. Другие, напуганные и озлобленные, шептались: «Сдался… значит, немцам служил». В ту атмосферу никто не вникал в детали: достаточно было факта, что его увели.
Через несколько дней он исчез. Кто-то говорил – расстреляли за деревней. Кто-то – что угнали в концлагерь. Официально же в документах его судьба застыла одной фразой: «пропал без вести». Ни могилы, ни похорон. И никакого признания ни жертвой, ни героем.
Для семьи это было хуже смерти. Если бы он погиб на фронте – его имя осталось бы на мемориале, вдова получила бы статус, дети росли бы «дети героя». А так – тишина и позор. Жена молчала, дети росли без отца и без права спрашивать. Им вбили: «Не говори. Не вспоминай. Это опасно». И тень этой тайны висела над семьёй десятилетиями.
На крыльце стоит его жена. В руках – ребёнок. Второй держится за подол. Она не кричит, не плачет. Только смотрит. Её взгляд – не живой, не мёртвый, а застывший. Как будто в одну секунду её жизнь переломилась, и дальше уже будет только выживание.
И теперь правнук, успешный, образованный, живущий в XXI веке, чувствует это на себе. Каждый раз, когда деньги приходят, когда он становится заметным, – поднимается не его страх, а страх того самого деда: «Лучше исчезнуть. Лучше не выделяться. Лучше быть маленьким».
– Я понял, – тихо сказал он, когда мы дошли до этого. – Я плачу не за свои ошибки. Я как будто всё время искупаю то, что не принадлежит мне.
Он впервые произнёс имя деда. Просто имя. И в тот момент с его плеч будто упала тяжесть.
Эти истории – не редкость. В каждом роду есть те, кого не называли, кого стыдились, кого «забыли». Но закон принадлежности неумолим: те, кого исключили, всё равно остаются частью семьи. И если их не признают, не назовут – потомки будут носить их груз- вину, стыд, бедность, страх.
Принадлежность – это не о том, чтобы оправдывать. Это о том, чтобы признавать. Дед был таким, каким был. Его судьба уже случилась. И, назвав её, мы возвращаем себе право жить свою.
А иногда тело говорит даже раньше, чем голова. Приходит человек с хроническими болями, с бессонницей, с усталостью, которую не объяснить. А за этим – память рода. О детях, о которых не говорили. О женщинах, чья любовь была отвергнута. О людях, которые исчезли из рассказов. И их молчание эхом звучит в дыхании, в походке, в реакции на успех.
Анна, молодая женщина, жаловалась, что ей страшно быть видимой. Она дизайнер, её работы – яркие, живые. Но как только дело доходит до презентации – она прячется.
– Я боюсь, что меня осудят, – говорила она. – Или наоборот – скажут, что я хороша. И это пугает ещё больше.
Мы поговорили. В семье Анны был младенец, брат её матери, умерший вскоре после рождения. О нём говорили: «Не жил – и не надо». Но это «не надо» оставалось жить в поколениях. И Анна, сама того не понимая, словно пыталась доказать: «Я не лишняя». Только через труд, через отказ от себя, через постоянное напряжение.
В таких историях нет плохих или виноватых. Есть просто те, чью боль не выдержали. Кого не смогли принять. И чья судьба – как незапертая дверь – до сих пор сквозит в семейной системе.
Иногда исключённые – это не только те, кого забыли, но и те, кому не дали права быть. Женщины, родившие вне брака. Мужчины, ушедшие от семьи. Бабушки, сошедшие с ума. Дети, родившиеся, но не признанные. Их судьбы – как вырванные страницы. А родовая система – как книга, которую нельзя понять, если в ней не хватает глав.
Когда мы начинаем возвращать им место – что-то меняется. В словах, в дыхании, во взгляде. Вдруг исчезает чувство, будто ты занимаешь чужое место. Появляется ощущение, что можно дышать. Что тебе можно быть. Быть собой, без страха, без долга, без нужды бесконечно доказывать свою нужность.
Одна клиентка как-то сказала:
– Я, кажется, впервые почувствовала, что могу быть просто женщиной. Не врачом, не дочерью, не кем-то ещё. Просто собой.
И в этом был главный поворот. Не в анализе, не в логике, не в «понять и проработать». А в том, что внутри неё стало меньше тишины. Меньше невысказанного. Как будто кто-то, кого давно ждали, наконец вернулся домой. И с этим возвращением пришла сила жить свою жизнь.
Если ты чувствуешь, что тебе трудно дышать полной грудью, что деньги утекают сквозь пальцы, что успех не приносит радости – возможно, дело не в тебе. Возможно, ты просто несёшь на себе чью-то забытость. И тебе можно остановиться. Посмотреть туда, где раньше был только страх. И сказать: «Ты был. Ты есть. Ты часть».
А значит, и ты часть. И тебе можно быть.
Иногда мы строим свою жизнь как дом, по всем правилам: с крепким фундаментом, с правильными углами, в хорошем районе. Но в какой-то момент вдруг чувствуем сквозняк. Ищем щель – и не находим. А всё потому, что не хватает стены. Той самой, которая была снесена когда-то до нас. И даже если мы не знали, что она была, тело помнит. Деньги, успех, партнёрство – всё это как мебель в доме. Но если сам дом непрочный, если в его основании пустота – ничто не будет радовать. Всё будет казаться чужим.
Я всё чаще слышу это: «Я стараюсь, но не чувствую», «Я зарабатываю, но боюсь», «У меня есть, но не могу взять». И за каждым из этих ощущений часто стоит не личная проблема, а чья-то забытая судьба. Кто-то, кого убрали из памяти, как если бы память можно было подчистить ластиком. Но ластик работает только снаружи. А внутри остаётся отпечаток. И он начинает звучать: в голосе, который гаснет, когда речь заходит о деньгах; в теле, которое сжимается, когда нужно назвать цену за свою работу.
Мы можем не знать имени, но чувствуем отсутствие. Иногда оно звучит в вопросах: «Имею ли я право брать за это деньги?», «Неужели это правда может быть моим?», «Не предам ли я кого-то, если выберусь из этой нужды?» Потому что деньги – это не только про доход. Это про достоинство. Про то, чтобы занять своё место, не вытесняя и не вытесняясь. Про то, чтобы стоять в своей судьбе, а не в судьбе кого-то, чью жизнь забыли.
Те, кого забыли, часто не были слабыми. Наоборот – их исключали за силу, за желание свободы, за выбор быть собой. Но тогда это было опасно. И теперь, через поколения, их боль звучит в нас. Мы боимся брать больше, потому что кто-то был наказан за это. Мы боимся выделяться, потому что кто-то за это был изгнан. Мы боимся хотеть, потому что кто-то за своё желание был сломлен. И мы платим не своими деньгами – а своей жизнью. Платим тем, что не позволяем себе быть.
Когда мы возвращаем исключённых – мы не только восстанавливаем род. Мы возвращаем себе то, что было спрятано вместе с ними: силу, право, достоинство. Мы как будто распаковываем наследство, которое всё это время хранилось за закрытой дверью. И там – не только слёзы. Там – решимость. Там – свобода. Там – те слова, которые мы не могли сказать вслух: «Я имею право быть», «Я имею право жить», «Я имею право брать».
Одна женщина сказала мне после работы с родом: «Теперь я могу принимать деньги, не оправдываясь». И это не просто про финансы. Это про то, что в ней исчезла та невидимая фигура, перед которой она всё время чувствовала вину. Как будто теперь она не заняла чужое место, а просто встала на своё.
Сила рода – не в том, чтобы повторять. А в том, чтобы продолжать. И чтобы продолжать, нужно быть целым. Не идеальным, не правильным, не сияющим – а настоящим. С полным составом за спиной. Тогда и жизнь, и любовь, и деньги могут течь свободно. Не как компенсация. А как естественное течение судьбы.
Иногда в расстановке я вижу, как человек вдруг выдыхает. Не просто физически – а всем телом. Как будто впервые перестаёт сдерживать. Это может произойти в тот момент, когда в поле появляется та самая забытая фигура. Не важно, кто она: брат, которого скрывали; бабушка, о которой не говорили; ребёнок, который не выжил. Важно то, что, как только ей дают место, остальное тоже становится на свои места. Деньги, которые не приходили – начинают течь. Голос, который гас – начинает звучать. Глаза, в которых была тень – начинают светиться.
Я много лет работаю с родом. И каждый раз вижу, как возвращение исключённых меняет не только отношения, не только внутреннее состояние, но и внешнюю судьбу. Человек перестаёт терпеть. Перестаёт соглашаться на малое. Начинает уважать свой труд. Ценить своё время. Давать себе право выбирать. Как будто в нём просыпается взрослый, который больше не должен платить чужую цену.
И в этом глубинная связь с деньгами. Потому что деньги всегда идут к тем, кто на своём месте. Кто не унаследовал чужую боль, а принял свою силу. Кто не боится быть частью – и потому может быть целым.
Закрывая эту главу, я хочу, чтобы ты представил: за твоей спиной – целый зал. Полный людей, судьбы которых переплелись с твоей. Кто-то – с опущенными глазами. Кто-то – с вопросом. Кто-то – с надеждой. Просто посмотри туда. Почувствуй: все они здесь. Никто не забыт. Никто не лишний. И среди них – ты. Не самый умный, не самый правильный, не самый святой – просто свой. А значит, тебе можно дышать. Жить. И брать.
Упражнение:«Возвращение исключённых»Найдите время, когда вы можете остаться одни. Лучше, если рядом будет тишина, мягкий свет, закрытое пространство, в котором вы чувствуете себя в безопасности. Сядьте удобно. Почувствуйте, как ваши ступни касаются пола. Как опора проходит через ноги, позвоночник, макушку. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
А теперь представьте свой род. Не умом, а образами. Как он приходит к вам – поколение за поколением. Возможно, кто-то появляется ясно, с чертами лица. Кто-то – просто как силуэт, как ощущение. Не спешите. Позвольте каждому занять своё место.
Теперь задайте себе вопрос: «Есть ли в моём роду кто-то, о ком не говорили? Кто был забыт, отвергнут, вычеркнут?» Позвольте этому образу – если он готов – проявиться. Не ищите его нарочно, не давите. Просто позвольте. Это может быть человек, которого вы не знали. Может быть смутный образ. Может быть просто чувство, что кто-то есть.
И когда он появится – внутренне скажите: «Ты принадлежишь. Твоё место в нашем роду есть. Я тебя вижу».
Понаблюдайте, как это ощущается в теле. Где становится легче? Где появляется тепло? Возможно, вы заплачете. Возможно, придёт тишина. А может, просто станет немного просторнее внутри. Не ждите чего-то «правильного» – любое ощущение будет верным.
В конце поблагодарите свой род. И поблагодарите себя – за смелость видеть и признавать. Сделайте вдох – и медленно возвращайтесь в состояние здесь и сейчас. Почувствуйте тело. Движение. Почву под ногами.
Глава 4. Закон баланса: между брать и давать
Ольга сидела в кресле, сгорбившись, поджав под себя ноги, как будто хотела стать меньше, исчезнуть из поля зрения. На ней был простой, аккуратный свитер, но руки всё время дёргали за рукава, словно что-то мешало, зудело под кожей. Лицо – бледное, губы – обветренные, под глазами – следы хронической усталости. Взгляд не задерживался ни на чём, будто ускользал даже от собственного отражения.
– Я помогаю всем: родителям, детям, коллегам, друзьям. Я не умею по-другому. – Голос звучал ровно, но слишком ровно, как бывает, когда человек давно научился не позволять себе чувствовать. – Я всегда в долгах. Всё отдаю. Как будто дышу через отдачу. А как только думаю о себе – становится тошно. Стыдно. И чем больше отдаю, тем хуже. Вроде бы делаю хорошее… а внутри – пусто. Финансово – тоже пусто.
Плечи у неё были приподняты, руки – крепко сжаты, дыхание – поверхностное. Изнутри звучало напряжение, будто в теле был зажат крик, которому так и не позволили выйти наружу. Она смотрела в пространство, не на меня – словно в ожидании: вот сейчас снова скажут, что она делает недостаточно. Или слишком много. Как будто в жизни не осталось ни одного безопасного места, где можно просто быть.