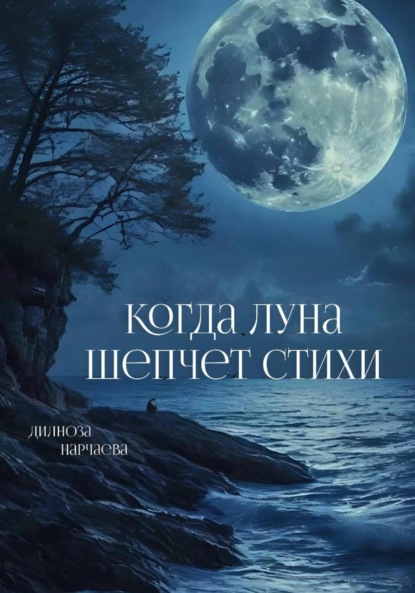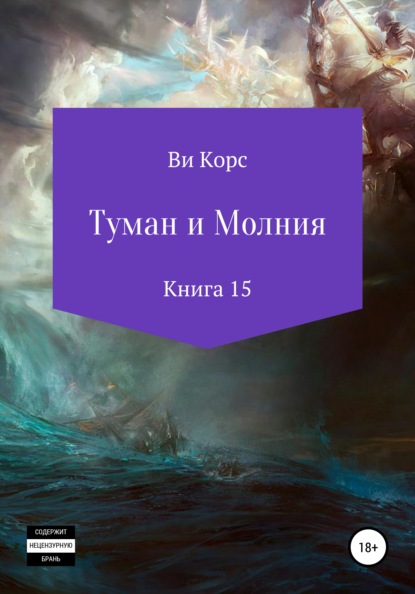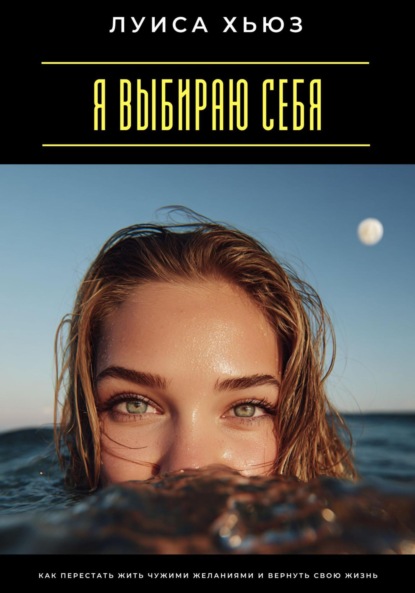Хасан ибн Саббах. Исламский гнозис. Ассасины – Начало
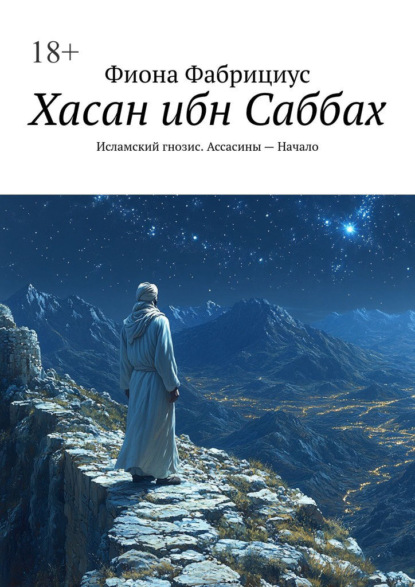
- -
- 100%
- +

© Фиона Фабрициус, 2025
ISBN 978-5-0068-5329-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Книга «Хасан-и Саббах: исламский гнозис»
включает в себя первый перевод на английский язык биографии Хасана-и Саббаха «Жизнеописание нашего Учителя» (Sar-Guzasht-i-Sayyidna\Сар-Гузашт-и-Сайидна), написанной Рашидом-ад Дином в 1310 году
Хасан-и Саббах родился в Северной Персии около 1050 года и умер в 1124 году. Он был исмаилитским деятелем и миссионером (или «даи»), основателем государства исмаилитов-низаритов, после узурпации власти имамата Фатимидов военным диктатором Египта.
В наши дни, религиозная община исмаилитов-низаритов, возглавляемая Ага Ханом, является одной из главенствующих сект исламского толка, насчитывающей около двадцати миллионов последователей в двадцати пяти странах мира.
Средневековые низариты были также известны как ассасины или хашишины. В сознании Европейцев они закрепились под этими именами благодаря своим контактам с орденом Рыцарей-Храмовников (Тамплиеров) и другими крестоносцами, во время их пребывания на Ближнем Востоке. Некоторые европейские авторы, по возвращению на родину, привезли с собой странные и по большей части далёкие от правды рассказы об ассасинах.
В четырнадцатом столетии, они были уже широко известны европейской публике, благодаря труду «Книга Чудес Света» прославленного венецианского путешественника Марка Поло. Он привнёс совершенно новое осмысление в мифологию многочисленных религиозных сект (их список включён в данную книгу и снабжён подробными комментариями).
Исключительный интерес в данной книге представляет идея того, что ассасины были своего рода предтечами и идейными инфлюэнсерами ордена Рыцарей Тамплиеров. Если это так, то историческая фигура Хасана-и Саббаха сыграла не последнюю роль в становлении Эпохи Ренессанса в Европе и восстановлении центральной роли герметических трудов и гностических, эзотерических трендов в духовной жизни европейцев, которые мы можем наблюдать и по сей день.
Автору данного произведения свойственен широкий исторический охват и предельно ясный взгляд на ситуацию, благодаря чему он проливает свет на трагические события, их корни и закономерности, имеющие место быть в ближневосточном регионе уже в наши дни, что бесспорно несёт исключительную ценность для заинтересованных читателей.
Хасану-и Саббаху поклонялись как истинному служителю Господа, совершенному духовному учителю, революционно настроенному религиозному гению, равно как и блестящему политическому деятелю. В то же самое время, он был презираем как еретик, убийца и циничный манипулятор.
Можно утверждать, что Хасан-и Саббах является основателем и главой самого успешного тайного религиозного общества в истории человечества, сумевший создать особенное политическое пространство, в котором он и утвердился в своей независимости. Созданная им крошечная империя послужит домом ему и его последователем, а также их потомкам в течении долгих 166 лет, а сотворённое им религиозное течение здравствует и поныне.
Будучи родом из Персии, Хасан посылает своих миссионеров для распространения учения своей секты по Сирии, Индии и Афганистану.
Исмаилиты-низариты или Ассасины, умудрялись выживать и даже процветать, идя в разрез с двумя такими могущественными династиями средневекового исламского мира, как Аббасидский халифат в Багдаде и Сельджукский султанат в Персии.
В первую очередь, в книге исследуются мистические круги в Месопотамии и Персии, откуда и произошёл сам Хасан и его община. Далее будут рассмотрены чрезвычайно важные вопросы касаемо ступеней развития ислама, в том числе некоторые воззрения, выходящие за грань ортодоксального учения. Здесь мы имеем подробное и дотошное описание жизни Хасана- и Саббаха, с использованием широкого круга источников и уникального подхода к интерпретации столь яркой фигуры этого выдающегося религиозного учителя.
включает
«Жизнеописание нашего Учителя»
(Sar-Guzasht-i-Sayyidna\Сар-Гузашт-и-Сайидна)
за авторством Рашида-ад Дина Табиба
перевод
Алиасгара Тагипуртеружени
Посвящение
Слава Живому, Который не умирает, Который создал все твари и уготовил им всем смерть, и Кто есть Первый без начала и Последний без конца!
«И пусть Всевышний Аллах отомстит предателю клятвы хлеба и соли!»
Из книги «Тысяча и одна ночь»
Содержание
Предисловие 12
Введение 24
Библиографические сведения 33
Часть первая: историческое окружение
1. Краткая история Месопотамии 35
2. Краткая история Персии 79
3. Краткая история становления ислама 128
Часть вторая: Жизнь Хасана-и Саббаха
4. Происхождение Хасана и его молодость 164
5. Обращение в исмаилизм 168
6. Предполагаемая служба при сельджукском дворе 179
7. Хасан начинает своё путешествие 186
8. Аламут 194
9. Переписка с Маликшахом 202
10. Расширение миссионерской деятельности (дава) и начало
военной кампании сельджуков против Аламута 206
11. Основание низаритской исмаилитской веры 213
12. Военные походы и территориальные приобретения
после смерти Маликшаха 221
13. Миссия в Сирию 232
14. Убийство как способ достижения цели 240
15. Жизнь среди средневековых исмаилитов 254
16. Смерть Хасана и продолжение
низаритского государства 261
17. Низаритская вера после падения Аламута 267
Часть третья: Гнозис Хасана-и Саббаха
18. Доктрина талима или авторитетного учения 276
19. Суфизм и Кияма 281
20. Гашиш и происхождение слова «ассасин» 298
21. Степени посвящения 305
Приложения
1. Средневековая легенда Марко Поло о Саде Наслаждений 315
2. Жизнеописание нашего Учителя (Сар-гузашт-и-Сайидна) за авторством Рашида ад-Дина Табиба 321
3. Предполагаемая переписка между султаном Маликшахом и Хасаном-и Сабахом 341 г. 366
4. Хронология (временная шкала) 377
5. Глоссарий имен 383
6. Словарь (глоссарий) терминов 417
Карты
Месопотамия 32
Месопотамия I Малая Азия 60
Левант 64
Персия / Запад и Восток 90—91
Персия/Аравия I Йемен 150
Персидские замки 195
Сирийские замки 219
Центральная Азия / Монголия / Китай 244
Предисловие
Эзотеризм лежит в основе всякой истории духовных исканий.
По удивительному совпадению, я начала писать это введение в новом 2020 году, за несколько часов до публичного объявления о том, что президент Соединенных Штатов отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Этот необычный факт придал книге резкий контраст и тревожный, неожиданный контекст реальным событиям нашего двадцать первого века, более чем через девятьсот лет после деяний основателя низаритского исмаилитского государства Хасана-и Сабаха – своеобразного архетипа «убийцы- ассасина» и преданного последователя доктрины Одного Имама, с которым он отождествлялся истинно просвещёнными верующими.
Повествование о «Повелителе ассасинов» Хасане-и Саббахе не только проводит тревожные параллели с современностью, но и помогает нам понять, что ислам не является неким монолитом, присущим фундаменталистам и угрожающим самой жизни, возведших смерть в культ джихадистов, в унисон выкрикивающих свои извечно воинственные послания.
Скорее, мусульманские общины мира представляют собой пёструю цивилизацию, раздираемую внутренними политическими конфликтами, доктринальными противоречиями и идейными расхождениями в сфере основополагающих религиозных воззрений. Этим многочисленным общинам, приходиться взаимодействовать в той сложной среде, где политика и религия зачастую неразделимы и где, конфликт между внутренним и внешним кажется неизбежным.
Подобное, конечно же, можно сказать и об уцелевших очагах христианской культуры на Западе, где критические различия между сектами и партиями, хотя и остались в основном в прошлом, всё же имеют место быть, как неминуемое следствие противоречий между религиозной и технократической цивилизациями.
Все, кто поклоняются Богу Авраама, то есть отдают ему свою дань почтения, рано или поздно придут к, возможно, антилиберальному воззрению о том, что объект их поклонения – «нелицеприятен», то есть «не щадит никого» (Деяния 10:34; Римлянам 2:11), и в то же время их Бог, тот который «хочет милости, а не жертвы» (Осия 6:6; Матфея 9:13; сравни с исламская басмалой – «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»). Безрассудность таких последователей – лишь отражение напряженности, порожденной вышеуказанными парадоксами, особенно когда предполагается, что человек является ничтожным рабом и в то же время должен «действовать для Бога», который хочет милости, а не жертвы.
Более того, это исследование поможет нам понять запутанную историю формирования ислама за первые шестьсот лет его существования, но и откроет для тщательного изучения вопрос о подлинной природе последователей легендарного «Старца с горы» (так Марко Поло назвал Хасана Саббаха в своей «Книге чудес света»). Его фигура – скорее литературный, чем исторический персонаж, возникла в результате удивительно противоречивой карьеры Хасана-и Саббаха (около 1050—1124), а также его жизни и учений его прямых преемников; по крайней мере, до тех пор, пока монгольские захватчики не уничтожили цитадель низаритских исмаилитов Аламут в горах Эльбурс на севере Ирана в 1256 году.
Неординарные качества лидера «ассасинов» (термин, вероятно, происходит от современного прозвища «хашишим») вошли в популярную мифологию, в книги и фильмы, часто вне какого-либо конкретного исламской контекста. Одним из таких примеров является неподражаемый фильм Дональда Кэммелла и Николаса Роуга «Представление» (1969—70), где Мик Джаггер, играющий Тёрнера – затворника рок-звезду склонного к саморазрушению, упоминает имя «хашишим» и интригующе спрашивает: были бы горы такими же без «бандитов», сжимая в руках фотографию пустынной твердыни, напоминающей далекую местность около Аламута, и где, позволю себе предположить, должно пребывать этому новоявленный ассасину Алистеру и где до сих пор жив его дух.
Перед нами картина, в корне отличающуаяся от того широко распространенного описания Аламута и его окрестностей, где, по крайней мере, со времен Марко Поло, предания о странном, пропитанном кровью мире, в котором заправляют наркоманы, движимые сексом, аморальные типы и ассасины – убийцы с затуманенным сознанием. Ясно, что такие представления ничто иное как романтизация и одновременно пародия на реальных ассасинов.
Книга представляет нам убедительное и логически обоснованное объяснение того, как появился этот вводящий в заблуждение образ ассасина. Это, конечно же, далеко не первый раз, когда мистическое движение с глубоким духовным содержанием было ложно выставлено как группа анархистов одержимых извращенными навязчивыми идеями. Здесь уместно будет вспомнить раннехристианских гностиков (обитающих в «бездне безумия и богохульства», по словам ересиолога Иринея, ок. 180 г. н.э.), моравскую церковь «Herrnhuter Brüdergemeine» из немецкой Верхней Лужицы (без которых методистская церковь никогда бы не существовала), «Семью Любви» шестнадцатого века и не в последнюю очередь телемитских последователи Алистера Кроули в двадцатом веке, среди сторонников которых числится и наш автор Джеймс Вассерман. Опыт вышеупомянутых предшественников Вассермана придает ему проницательную силу в его переоценке генезиса низаритов-исмаилитов в двенадцатом и тринадцатом веках н.э.
Лично я нахожу в этой книге очень вдохновляющим пример стойкости гонимых религиозных меньшинств, несущих бремя сохранения тайного знания. Глядя на сегодняшние низаритские исмаилитские общины в мире и на филантропический размах всемирно известного лидера этой общины – Карима аль-Хусейна Шаха, Ага Хана IV (почитаемого верующими как прямого потомка Пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму), для многих такой позитивный образ низаритов станет своего рода откровением ввиду того, что он не вяжется с теми негативными представлениями о последователях Пророка, уходящими корнями в угасающее Средневековье и несовместимыми с либеральными ценностями современного человечества, чуждыми всяческому прогрессу.
Если же мы прибегнем к авторитетным источникам информации, современные низаритские исмаилиты предстанут как община, оказывающая мощное позитивное влияние на общественную жизнь на нашей скорбной планете, охваченной в наши дни нескончаемой дезинформирующей цифровой пропагандой.
Истина может казаться нам скрытой. Это утверждение имеет некоторую аналогию с утверждением Хасана-и Саббаха о том, что воплощением духа истинного учения Мухаммеда был аль-Хади ибн Низар – живой человек, которого он считал истинным имамом. Он в тайне телесно присутствовал в Аламуте, под защитой этой горной цитадели от смертоносной угрозы от тех, кто утверждал, что был верен духу Пророка. Для Хасана-и Саббаха такие их заявления были пустышкой, не более того, ибо враги Хасана не открыли себя внутренней силе единственного истинного имама – живого авторитета в толковании учения Пророка. В своём осуждении тех, кого он считал клеветниками на истинный дух, Хасан недвусмысленно упомянул приверженных суннитам лидеров турок-сельджуков. Сельджуки захватили Персию в одиннадцатом веке и господствовали там над основным врагом Хасана – Аббасидским (суннитским) халифатом, чья опора власти, как и цитадель Аламут, была уничтожена монгольскими захватчиками в 1258 году.
У Хасан-и Саббаха также имелись враги в Фатимидском халифате шиитов-исмаилитов в Египте (которые не признали аль-Хади ибн Низара в качестве имама) и исмаилиты-шииты «Севенер», которые считали Мухаммеда ибн Исмаила (775—813 гг. н. э.) последним «видимым» имамом. Ещё были шиитские «двунадесятники» (сегодня это самая крупная группировка шиитов на Ближнем Востоке, главным образом в Иране, с большинством в Ираке и Бахрейне). Двунадесятники проследили родословную имамов от Али ибн Абу Талиба (600—661 гг. н.э.) до Мухаммед ибн аль-Хасана, который, хотя и родился в 869 г. н.э., считался ими «скрытым» имамом и ожидаемым Махди.
Если доверять интерпретации американского исследователя Джеймса Вассермана верования Хасана-и Саббаха, а также принять во внимание провозглашение его преемником Хасаном Х экстраординарной доктрины кийяма (Воскресения) в Аламуте в 1164 году, то мы обнаружим, что учение этих учителей – низаритов содержит в своей основе следующее послание: вера в некого антропоморфного Бога, ограниченного низшими категориями человеческих инстинктов и эмоций – это ничто иное как оскорбление того самого Бога, по образу которого впервые был создан Адам. Такое ограниченное видение Божественной Природы Творца – страшное богохульство. Поносить знание или преследовать его – значит оскорблять Того, Кто является источником всего знания и всей истины и, следовательно, должен быть конечной целью всякого знания.
Быть угодным Богу – значит держаться поодаль от тех, кто несмотря на претензию истины в последней инстанции, недостаточно понимают глубину и высоту Его. Их извращённое «служение» Его Величию, несомненно, порочит ту Великую Тайну, в которой по Его благословению мы все и существуем.
Если характеристики ложного эго проецируются на Бога, и Бог «видится» через эту искажающую линзу, за это приходится платить адскими мучениями. Банальные человеческие гнев и неудовлетворённость переносятся на «Бога» и подаются как «Божья воля». Неудивительно, что это так согласуется с чувствами одержимых своим эго людей, радующихся, так сказать, тому, что их Бог на их стороне.
Низаритские исмаилиты верили – и вряд ли они были единственными в своём роде – что религиозные писания имеют смысл, выходящий за рамки буквального понимания священного текста. Низариты полагают, что для понимания такого «эзотерического», глубокого духовного смысла писания необходим живой учитель – имам, чей дух созвучен духу, в присутствии которого слова учения были впервые услышаны.
В момент написания этих строк, для меня делается очевидным близкое сходство в подходе к пониманию доктрины «Окончательной Реальности» принятом в великом духовном потоке суфийской традиции и существующим видением этого вопроса у исмаилитов. Обе мистические традиции полагают целью утрату мистиком своего иллюзорного эго («аль фана» – растворение и осознание единства с Абсолютом).
Ввиду вышесказанного, для читателей не лишним будет узнать, что после варварского разорения монголами Ближнего Востока в тринадцатом столетии, исмаилиты-низариты смогли выжить в условиях наступивших жесточайших гонений, претерпевая многочисленные мучения со стороны завоевателей. В последующие за этим времена, низариты-исмаилиты жили в тесном контакте с суфийскими мастерами и были знакомы с их «путями постижения» (турук), которые находились в, так сказать, близком родстве с их собственными методами и духовными доктринами.
Духовные идеи, ассоциирующиеся с низаритами-исмаилитами (в особенности их концентрацию на первостепенном значении сокрытого внутреннего знания – «батин», а не почитания внешней формы учения – «захир») также могут быть обнаружены в том, что в настоящее время известно о мистических доктринах, распространенных в среде мандеев Ирака, Алавитов в Сирии, Ливане и Турции, а также среди курдских езидов на севере Ирака, в Армении, Грузии и Турции. Все эти религиозные общины пережили тёмные века жестоких гонений на их религию, но, ни смотря ни на что, их духовное наследие впоследствии получило своеобразное продолжение в созвучных их идеям мистических традициях индийской Джняна йоги, суфиев (как было упомянуто выше), розенкрейцеров и гностиков, а также в таких ответвлениях гностического мистицизма как Телема Алистера Кроули (религиозное течение, представленное в наши дни интернациональным Орденом Восточных Тамплиеров – Ordo Templi Orientis).
Например, я считаю, что провозглашённая Хасаном II в Аламуте концепции кияма удивительно схожа с идей ранних христианских гностиков и египетских герметистов «реализованного воскрешения» и реализованной эсхатологии» (палингенезии-возрождениея или же аплоитросиса-искуплениея). «Восхождение» духа в теле адепта может быть реализовано уже в этой жизни, но только посредством подлинного гнозиса, когда индивид обретает прямое постижение и его или её доселе скрытая природа проявляет себя в полной мере и становится непосредственным трансцендентным опытом, дарующим бессмертие в духе, подобно молнии, рассекающей видимые оковы невежественной плоти.
Такие параллели, заставили меня задуматься, а не придуман ли изначально термин «хашишин» для описания некого экстатического состояния единения с Абсолютом, которое могли переживать верующие из ближнего круга Хасана-и Саббаха, сравнивая его с исступлённым опьянением от приёма гашиша, что было частой практикой на Востоке. Здесь также можно вспомнить опыт учеников Иисуса на пятидесятницу, после того как на них сошёл Святой Дух. Деяния живописуют нам, как они узрели языки пламени над своими головами, а также то как, оказавшись в общественном месте, они были осмеяны, так как были приняты за пьяных окружающими, ведь апостолы «лепетали» заплетающимися от божественного экстаза языками, говоря на современный манер – «находились под кайфом» в глазах невежественной публики.
Та известная или, скорее, печально известная фраза «Ничто не истинно, всё дозволено», что была так небрежно брошена и фривольно истолкована персонажем Мика Джаггера в вышеупомянутом фильме «Представление» возможно, могла бы, аналогичным образом, быть отнесена и к «Старцу Горы». Подобное ницшеанское высказывание кажется мне похожим, в первую очередь по духу, с тем, что провозгласил в эпоху Ренессанса Пико делла Мирандолла. Этот мудрец утверждал примат «достоинства человека», то есть то, что человек, будучи духовно просвещённым, сам решал, упасть ли ему или же подняться по Великой Цепи Бытия, быть может, даже выше ангелов. Именно это и отличало, по его мнению, «Великое чудо человека» от созданий низшего порядка бытия. Мирандолла имел в виду, конечно же, ГерметическогоЧеловека, ведающего о путах Эго, которые должны быть решительно отброшены при его духовном восхождении.
Кроме того, фраза «Ничто не истинно» довольно интересно перекликается со знаменитой провидческой строкой Джона Леннона «Ничто не реально» из его песни «Земляничные поляны навсегда», выпущенной в 1966 году. Это его визионерское высказывание – о вновь обретённом экстатическом чувстве свободы от общепринятых категорий бытия, таком естественном для нас в детстве, но впоследствии утраченном. А ещё, конечно же, о сознании того, что за пределами известной нам «истины» лежит неизвестная реальность, которая настолько превосходит всё известное нам, что заставляет казаться наше обычное знание, в конечном счёте, жалким и незначительным. Тот, кто осознал этот парадокс относительности любой истины, становиться действительно свободным в своих действиях (ему всё дозволено). Это, конечно же, не означает, что он может делать всё, что ему заблагорассудится. Речь идёт об обретении внутренней свободы, а не о банальной вседозволенности. Как только приходит осознание того, что «всё разрешено», та самая мудрость, что позволила ему понять истинный смысл этой фразы, несомненно, дарует ему и необходимую прозорливость, чтобы осознать эту свободу, как высшую ценность. Будем честны: «религиозно одарённый» человек всегда был презираем большинством за его стремление идти против общепринятых правил. Мужчина или же женщина, пребывающие «в истине», всегда должны быть готовы столкнуться с противодействием социума. Так откровение, вложенное Хасаном II в его концепцию Кияма, может быть выражено следующими словами: «шариат (система правил поведения) был придуман для человека, но не человек для шариата». Духовная истина простирается несоизмеримо шире, чем предписания, призванные удержать злонамеренные или же заблудшие души людей от разрушения пути, ведущего к окончательной Истине.
Не безынтересен тот факт, что среди всего того наследия исмаилитов, что было утеряно вследствие Монгольского нашествия и разрушения замка Аламут и других подобных ему крепостей в Персии были библиотеки знаний, так усердно собранные Хасаном-и Саббахом и его низаритами. Судя по всему, библиотеки эти не были узкими сектантскими образованиями, но, как представляется, были открыты для любой системы знания. Современные учёные-исследователи дорого бы дали за шанс ознакомиться с этими утраченными интеллектуальными сокровищами исмаилитов.
В свете вышесказанного, меня бесконечно восхищают высказывания лидеров мандеев, езидов и исмаилитов-низаритов, которые мне довелось слышать в последнее время. Они ставят своей первостепенной задачей повсеместное распространение современных учреждений высококлассного профессионального образования для членов своих общин, которые не были бы связаны никакими костными сектантскими догматами. Образование для этих людей – это всё что угодно, но только не идеологическая пропаганда; для них это просто передача ценного опыта предшествующих поколений. Их вера состоит в том, что знание многочисленных искусств и наук является благотворным для открытого разума, ибо поистине духовный человек не боится противостоять общепринятым истинам; скорее он занимается подобным поиском на протяжении всей своей жизни, прилагая решительные усилия, чтобы внести свой вклад в усовершенствование накопленного знания и найти перспективы применения его на пользу отдельного человека, общества в целом или же всего нашего мира, в котором мы существуем. Критическое мышление жизненно необходимо для всецелого развития ума (разум – дар духа). Таким образом, сегодня мы обнаруживаем в этих сообществах новый «Ренессанс» интеллектуальной мысли. Здесь снова появляется связь между scientia (с латинского – «знание», то есть – «наука») и gnosis (подразумевается развёртывание духовного присутствия). Божественное откровение, в каком-то смысле, бесконечно, и ни одна традиция или школа не может вместить в себя всего. Ум может принять в себя «молодое вино» духовного знания только будучи пригоден для этого, то есть очищен. С одной стороны, пути к этому состоянию считаются данными в вечности, с другой же, пути эти должны быть заново открыты каждым новым поколением. Высшая истина вечна и её проблеск можно узреть в любой момент времени, но истина эта динамична, а не статична. Бог есть это бесконечность. Такой подход «радостного познания» резко контрастирует с присущим фундаменталистам подавляющим подходом к жизни. Мы ищем духовных друзей на Пути, где бы они ни были, но нам также известно, где нам не будут рады. Истина – незваный гость за слишком многими столами, накрытыми во имя Божье.