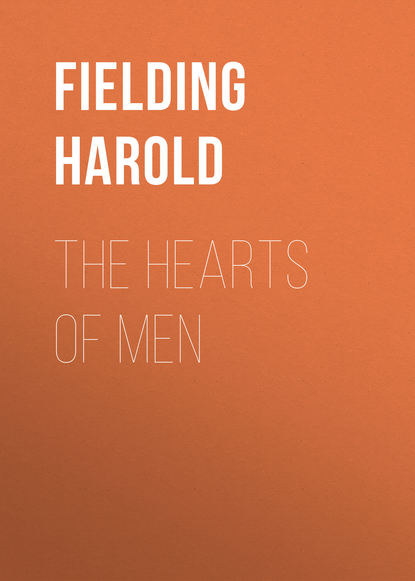Город Госпожи Забвения

- -
- 100%
- +
Ты познаешь страх.
Ты либо выживешь, либо умрешь. У тебя будет достаточно Искры, чтобы удержать себя в материальной области, иначе она вернется в холст, взяв с собой твое тело и растворив его здесь в ничто. Если тебя выльют на землю где-нибудь за лачугой человека, чьи легкие ты уничтожил своими отрицаниями, если ты довел его до смерти и оказался в Живой Грязи, то это продлит твое время в материальной области.
Близость мертвого Бога, невозможность его использования в качестве холстовика породила альтернативную форму творения – волшебство. Царство, в которое ты пришел, – это место почти безграничных возможностей, хотя вероятность того, что ты сможешь ими воспользоваться, невелика.
Если бы в чаше, в которую выхаркали тебя, была тысяча легочных червей, если у цепочки событий есть тысяча невероятных исходов, то большинство этих исходов в отсутствие воли умершего Бога будет безвольной глупостью. Ты можешь перестать существовать совершенно без причины. Ты можешь оказаться на дюйм левее того места, где ты находился. Вместо легочного червя ты можешь оказаться веточкой близкого размера. Твоя температура может повыситься на один градус по сравнению с той, что дозволена тебе в материальной реальности.
Подумай о тысяче бессмысленных исходов – ты можешь стать одним из них.
Только холстовик может сделать невозможное идеальным. Поэтому он и есть Бог.
Но иногда невероятное может походить на волю холстовика по ошибке. Ты, умирающий легочный червь, можешь превратиться в умирающего земляного червя, который являет собой более идеальную форму червя, или в умирающую змею, которая еще более идеальна, или в палец, который еще более идеален, потому что он идеальная часть более идеального существа; человек больше походит на холстовика, чем червь или змея, а потому он и идеальнее.
Если то, во что ты случайно превратишься с помощью невероятного творимого холстовиком волшебства, воплощенного в Живой Грязи его присутствием, способно двигаться, познавать и питаться, то ты можешь преобразиться и познать поедание подобных тебе. Умирающая змея может жить, поедая легочных червей, переваривая их материю и Искру, чтобы оздоровить свое тело. Ты бросаешься в грязь и затаиваешься, поедаешь всё, что приближается к тебе.
Проходит день, неделя, ты живешь, невидимый, в Живой Грязи великого города Мордью, ты слеп к событиям, происходящим наверху – уходит чей-то ребенок, умирает чей-то отец, – но наступает день, когда не находится пищи, чтобы утолить твой голод, и ты меняешь место, грязевая змея, ты переползаешь в самую глубокую часть Грязи, привлекаемый близостью холстовика, подкармливаемый той или иной едой – сгнившая сброшенная кожа пятнистой птицы, крысиные младенцы, оставленные без присмотра, лужа крови феникса, забитого до смерти шайкой малолеток, блевотина пьяницы, лежащего лицом в земле близ распивочной. Еда за едой, голод за голодом, ты находишь свой путь к Цирку, который располагается теперь там, где ты в твоем развивающемся разуме слышишь голоса других палтусов, обладающих такой способностью.
Скажем, в Цирке десять тысяч палтусов – их там гораздо больше – и, скажем, один из ста волшебным образом научается коммуницировать – в большей или меньшей степени – и здесь много таких, кто обладает этой способностью. Ты? Тебе нечего сказать – ты грязевая змея, эволюционирующая без участия холстовика. Ты не можешь понять тех мыслей, что они шлют тебе, кроме, пожалуй, их тона – а он никогда не звучит гостеприимно, – но знать, что тут есть другие, что существует такая вещь, как коммуникация? Это расцветает в тебе, в твоем сердце, которое ты теперь чувствуешь у себя в груди. Что-то вроде радости? Это слово ничего не значит для тебя, но так оно и есть – радость, испытываемая безрадостными, безмозглыми, и теперь у тебя есть основания избегать хватких пальцев, которые хотят вытащить тебя из грязи, которую ты уже начал считать своим домом. Ты можешь сосредоточиться на медленной эволюции смысла, ощущая его в своей душе, а смысл – это нечто, порождаемое Искрой, если она может обнаружить концепции и связать их в нематериальную котомку, имеющую свойство уникальности.
Потому что ты сам уникален.
Не нужно комбинировать множества необычных событий для создания чего-то уникального. Необычные концепции, связанные воедино, какими бы простыми они ни были, могут составить нечто уникальное. А сотня таких концепций? Даже полсотни? Расположи как попало пятьдесят букв на листе бумаги – результат будет уникальным, поскольку если ты проделаешь это еще раз, и еще, и еще – он будет другим.
Теперь ты, мыслящий, пугливый, жизнерадостный грязе-змей Цирка Мордью, избегающий пленения, удовлетворяющий голод, обучающийся мистическому общению с твоими палтусами Живой Грязи – ты уникален, и в нематериальном царстве твоя концепция бессмертна, она обрела душу с помощью Искры даже в отсутствии воли холстовика.
Ты сам себя сотворил.
Ты узнаешь, что иметь уникальное «я» – это знать голод иного рода, уникальный для тебя – волю к собственному совершенству. У других это воля к доминированию, или к удовольствию, или к сотне других вещей. Твоя воля есть твоя воля, и для ее наилучшего воплощения нужно зарыться вниз, туда, где находится обиталище Бога, хотя ты и не знаешь, существует ли он на самом деле, и ты не знаешь, зачем ты отправился бы в него, если бы он существовал.
Время идет, ты не знаешь, сколько прошло, но ты закапываешься снова и снова в одном и том же месте, ты ешь исключительно для того, чтобы у тебя были силы, чтобы закапываться, проведя линию разделения в грязи, – и хотя земля уплотняется, стоит тебе удалиться на обед, – когда ты возвращаешься, копать становится легче.
Чем ближе ты к жилищу Бога, тем очевиднее твоя форма, мутирующая на ощутимый для тебя, хотя тебе и неподконтрольный, манер.
Наступает день, когда на твоих боках появляются почки, потом они превращаются в весла, которые помогают тебе копать, потом весла становятся совками, затем лопатами, а ты с каждым днем увеличиваешься в размерах. Усиливается и твой голод, и тебе больше недостаточно питаться недоразвитыми существами, тебе нужно рискнуть и попробовать что-нибудь покрупнее, атаковать более крупных палтусов, существ, которые могут дать тебе отпор, потому что оно стоит того, поскольку ты чувствуешь, что неплохо продвигаешься со своим туннелем, проводя там всё время, какое у тебя есть.
Наступает день, когда ты упираешься в скалу, и хотя понимаешь, что копать дальше не получится, ты знаешь, что именно к этому ты и шел – скала горяча от энергии, она сотрясается волшебством, имеет вкус всего того, что ты когда-либо жаждал. Ты окунаешься в это, в эту скалу, так камбаловые лежат на морском дне, прижимаясь к нему. Твои конечности, прежде совковообразные, разделяются на пальцы, которыми ты можешь двигать. Ты потрясен, это счастливое потрясение, и ты теперь спешишь вверх, чтобы контактировать с остальными, сообщить им свою новость, поделиться с Цирком этим невероятным чудом.
В возбужденном состоянии ты становишься беспечным. Возбужденность сама по себе является разновидностью беспечности для такого существа, как ты. Ты утратил тот страх, который прежде защищал тебя, забыл те голодные периоды, которые прежде управляли тобой. В твоем желании общаться, радостном само по себе, но не несущественном для твоего бытия жажде реализовать на практике – ты по-прежнему мутировавший легочный червь с идеями, превосходящими твое положение, – тебя вытащил из Цирка ребенок с удочкой.
Ты ведь не настолько глуп, видел, как это случалось с другими, ты сам обещал себе всегда держаться на глубине и оставаться там, но теперь оно ухватило тебя своими руками, потому что оно есть существо, принадлежащее этому царству, а не какая-нибудь почти незаметная чепуха, обитающая во взятом взаймы времени, оно гораздо сильнее тебя. Его обтянутые кожей кости подобны палочкам, воткнутым в твое тело, и это мучит тебя. Ты кусаешь его в лицо, царапаешь его своими новыми конечностями, но оно знает тебе цену. Оно крепко держит тебя за шею и, не прикладывая, кажется, для этого особых усилий, вырывает твои красивые новые руки из ствола твоего тела, и ты уже не можешь защищаться ими.
Ты истекаешь кровью, а ребенок тянется за своей смертоносной сумкой. Ты потрясен потерей руки настолько, что почти упускаешь свой шанс – как что-то столь прекрасное может быть столь краткосрочным? – но жизнь научила тебя делать то, что ты и делаешь теперь. Может быть, ты и есть ничто иное, как машина для делания этого. Пока ребенок борется со своим поясом, ты выкручиваешь свою шею и кусаешь его руку, вонзаешь клыки в ее структуру. Он взвизгивает и отшвыривает тебя в воздух. Поначалу твои зубы погружены в его плоть, но ты вытаскиваешь их оттуда и падаешь, разбрызгивая грязь, и, невзирая на боль в обоих твоих боках, ныряешь и погружаешься туда, где тебя невозможно найти.
Ты должен был умереть – ты определенно не сделал ничего, чтобы сохранить свою жизнь, – но существо с душой, побывавшее в такой близи от Бога, не может просто исчезнуть в прежней Грязи. Копать глубже больше невозможно, плоть в ранах, причиненных ребенком, распухла, стала чувствительной и бесполезной, она раздиралась до кости при попытке ее использовать. Ты был бы съеден, если бы другие не защитили тебя. Они хотели услышать твою историю – о горячей скале и новых конечностях – и, хотя ты им рассказал об этом, никто из них не смог найти твой туннель.
Ты лежал неподвижный на полу Цирка, проглатывал собственную жалость к самому себе. Оно всё продолжалось и продолжалось, и в твои намерения входило позволить себе умереть, вернуться в ничто, но спустя какое-то время даже это стало невозможным. Голод – это такая сила, легко победить которую не удается. Тебе казалось, что существует некий баланс, который нарушился в один из дней. В конечном счете намерение заморить себя до смерти голодом стало требовать столько усилий, что желание грязевого змея голодать перестало с ним справляться, голод лишал тебя энергии, и наступает день, когда ты больше не можешь выносить отсутствие еды. Палтусы поменьше размером стали относиться к тебе, как к неживому предмету, и, когда один из них проплывал мимо, ты его проглотил. Он был довольно хлипким, как слизняк или медуза, легко переваривался и наполнил тебя материальностью и Искрой, навел тебя на мысли о необходимости приложения усилий, те мысли, которые ты давно загнал в самые дальние углы внутри себя.
И тогда ты начал видеть собственное будущее, важность потребления еды, а не пребывания едой, важность охоты и, может быть, мести.
Это спасло твою жизнь и дало тебе возможность стать тем, кем было предопределено судьбой, не стать постепенно прожилками плоти и серо-белых костей. Это дало тебе возможность сделать то, что ты сделал вскоре, и деяние твое было совершенно необычным.
Ты поймал палтуса, укусил за руку ребенка, вырвал последние нити своих погубленных конечностей, увидел под ними здоровую шрамовую ткань, и тут-то оно случилось. Оно случилось одновременно и со всеми остальными, но совершил его ты.
Он возник.
Голубой Свет.
Он погрузил кулаки в Живую Грязь и наполнил тебя силой. Он ускорил развитие всех вас из низшего месива несформированной слизи в величайшие из способных к коммуникации умов, провел вас по всем этапам воли холстовика до высшей формы самого Бога – ребенка – только не из плоти, а из плоти и силы.
Он попросил тебя следовать за ним и победить его врагов, а, поскольку они были и твоими врагами, ты с энтузиазмом согласился. Если бы дело на этом и кончилось, то этого было бы достаточно – побыть солдатом в армии Великого Палтуса, – но потом он выдал новый приказ, такой приказ, который мог выполнить персонально ты, и состоял этот приказ в том, чтобы уйти в землю и открыть каморку Бога.
Только ты, безродный легочный червь, безродный Грязевой змей, безродный Цирковой палтус с оторванными конечностями, знал дорогу к этому месту.
Избранный из своего народа, именно ты взломал ту каморку и насытил материальное царство силой Бога. С этого дня ты стал известен как Великий Червь, первый из палтусов.
Но как насчет любви? Достаточно ли палтусу существовать и служить, и никогда не иметь для себя ничего, кроме служения?
Эта мысль пришла к тебе, Великий Червь, снаружи в тот день, когда город вытянулся и стал наклонным и монолитным. Это случилось в тот день, когда собака высадилась на берег. Это случилось, когда другие растянулись и деформировались одновременно с землей и были превращены в коварных тварей вдали, внезапно и против воли были вынуждены проститься с младенческим обличьем, израсходовать свою энергию на эту деградацию, в прежнем виде остался только ты.
Могло ли это быть совпадением?
Эта мысль посетила тебя в виде женского голоса, тот факт, что это существо сопровождало голос, сделал из тебя мужчину, соблазненного звуком, который был так мягок, что ты стал тверд в ответ, и навел тебя на мысль о еще одной недостаче.
– Но как насчет любви? – сказала она и добавила: – Ступай за мной.
И перед твоими глазами появился облик Госпожи Маларкои, Невесты Великого Червя, вышедшего из Живой Грязи, начавшего с того же холстяного микроба, перешедшего в легочного червя, потом в грязевую змею, а потом отрастившего конечности. Но она не взяла Голубой Свет, она сохранила свою физическую природу. Она превратилось в монолит, тогда как ты перешел в энергию, и эта монолитность обещала тебе целостность, которую она называла «любовь».
Она жестом попросила тебя подойти к ней, и ты взял ее за руку, которая напоминала те конечности, которых ты лишился, и она показала тебе, где ты должен быть, что делать и кому сделать больно, чтобы заслужить ее любовь.
И ты сделал то, что она наказала тебе.
Ее школа
Порция своим ясновидствованием обследовала третий уровень холста, и там обнаружилось идеальное место, выделявшееся на фоне промежуточных образований. Она заглянула в будущее этого места, в его прошлое, вводила себя туда и сюда, прокручивала назад и вперед.
Дашини уже проснулась и сидела на кровати, и Порция, удовлетворившись своими разысканиями, взяла ее на руки.
– Я думаю, тебе это понравится, – сказала она.
Размещение этого царства вблизи границ Пирамиды не потребовало больших усилий и удалось с третьего раза, она растянула размеры, расширила время, увеличила пространство, скомпоновала объем в сотни тысяч раз больший, чем фактический размер архитектуры. Она сделала три Двери – вход с лестницы Пирамиды, вход со второго уровня и выход в четвертый. Ей Двери, конечно, были ни к чему, но если Дашини когда-нибудь потеряется, то, по крайней мере, можно будет воспользоваться ими.
Когда Порция была девочкой, ее мать украсила детскую обоями с драконами, и хотя драконы эти являлись плодом фантазии и не были представлены ни в одном из тех открытий, что она сделала в холсте, это царство всё же во многом походило на ее комнату. В ее детской сотни летающих по стенам ящериц метались туда-сюда на голубом фоне, то же самое происходило и в этом царстве.
Виверны, амфиптерии, пернатые змеи, драконы – десятки существ, названия которых не знала даже Порция, которая была хорошо осведомлена в такого рода вещах – крутились в воздухе, приземлялись они редко, если только вообще приземлялись. В их эпицентре вроде бы находилось каменное дерево, а потому Порция заставила себя появиться там, на самой высокой точке этой земли.
Богиня этого царства – позднее Порция узнала, что та называла себя Джапалура, – увидела ее, когда Порция стояла на самой высокой ветке. Порция держала Дашини высоко у себя над головой и посылала вверх пучок света. Мысленно она провозглашала: «Этот ребенок будет вам как дочь, драгоценная и достойная любви. Возьмите ее, заботьтесь о ней, вы вернете ее мне через семь дней». – И она подбросила Дашини в воздух.
Джапалура поймала Дашини, не дала ей упасть, балансируя девочкой на конце своей широкой морды, и в течение семи дней богиня летала с ней по всему своему царству, представляла ее своим подданным, кормила ее их дарами, а когда весь мир узнал, кто такая Дашини, Джапалура поднялась с нею высоко-высоко, до места, с которого земля под ними приобретала кривизну, а небо вокруг становилось черным. Джапалура летела вверх по прямой, как пущенная из лука стрела, на наконечнике которой сидела Дашини, летела она до тех пор, пока было куда лететь, до места, где кончалось царство.
Дашини там не могла дышать, но она сидела на носу дракона, и богиня делала осторожный выдох, чтобы девочка могла разделять с ней дыхание. Потом она оставила Дашини на самой верхушке неба и позволила ей упасть.
Неправда, что дети ее возраста не ощущают опасность – очень даже ощущают, – но Дашини не ощущала. Идти она не могла, но развела руки и ноги и летела, как Джапалура. Вернулся воздух и засвистел в ее ушах, и плющил ее кожу, но Дашини летела вниз и кружилась, делала петли на ветру. Она улыбалась и смеялась, а летевшая рядом с ней богиня в облике дракона показывала ей, как можно вертеться в воздухе, как ускоряться и замедляться, как нырять к земле.
Когда земля была уже совсем близко и ветки каменного дерева грозили рассечь девочку на части, Джапалура подхватила ее в последний момент, а потом снова отпустила в полет.
Эта игра никогда не наскучивала Дашини, и она была недовольна, когда в конце седьмого дня Джапалура вернула ее Порции.
В ту первую ночь по возвращению в Пирамиду Порция прошептала обещание Дашини – обещание, что она сможет каждый свой день рождения проводить в этом месте – и хотя это обещание, как и все остальные, данные ее матерью, было вскоре нарушено, в сердце девочки оно сохранилось.
Ее слуги
Гэм подошел к Двум Джо.
Наверху, на Стеклянной Дороге, сиял лунный свет, и, хотя по небу ползли облака, выражение лица Гэма вызывало тревогу. Он был из тех мальчиков, которым доставалось в жизни, но которые находили способы преодолеть трудные времена. Теперь на его лице было выражение мрачной неколебимости: он пришел к какому-то решению, и теперь собирался воплотить его в жизнь, невзирая ни на какие последствия. В то же время круги вокруг его глаз говорили о страхе и печали – о страхе перед тем, кем он стал, если принял решение сделать то, что он вскоре намеревался сделать, а печалился он о том, что не родился сильнее и лучше.
Двум Джо казалось, что в таких мыслях было что-то корыстное: творить зло гораздо проще, когда ты дал себе разрешение быть слабым и плохим.
– У меня не было выбора, Два Джо. Я знаю, что рискую, но думаю, что он сможет это сделать.
Гэм никогда не поднимался по этой Дороге, только спускался, установив обе ноги на стекло и скользя почти горизонтально.
Два Джо попятились, подняв руки, но пятиться им уже было некуда.
– Он вернет вас назад. Можете не волноваться.
– Подожди! – закричали они. Вероятно, в их голосе слышалось что-то, но Гэм сделал то, что ему было сказано. – Если речь идет о чем-то нехорошем, то ты не обязан это делать. Скажи, о чем ты думаешь, мы сумеем помочь.
Гэм не стал ждать – он узнавал тактику затягивания, когда сталкивался с ней. Два Джо видели усталое знание в его глазах, разочарование, что у них не нашлось ничего более убедительного, и тут его руки ухватили их за шиворот.
– Это всё Пэдж. Это она. Мы ничего не можем поделать.
Если кто-то держит вас за шиворот, то ваше желание отойти в сторону вполне естественно, но подошвы Двух Джо заскользили по Стеклянной Дороге, и они в своем воображении представили себе долгое падение на крыши. Гэм был марионеткой Пэджа, а Пэдж был слугой Госпожи. Всё, что они делали, они делали для нее.
– Ты хочешь нас убить?
Гэм с такой силой подтянул их к себе, что Два Джо почувствовали, как расходятся швы на их рубашке, почувствовали, как рвутся нитки в тех местах, что они зашили. Странно, что в подобных ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти, такие мелочи привлекают твое внимание, подумали они.
Единственный зуб Гэма был там, в его темном рту, расколотый и в дуплах, почти не сидящий в его сморщенной десне.
– Натан вернет вас к жизни. Пэдж обещал.
В других обстоятельствах Два Джо рассмеялись бы – обещания Пэджа не стоили ни гроша, напротив, они требовали оплаты, – но времени на смех не было.
Гэм столкнул их с Дороги.
Не то чтобы у них было время подумать – падали они быстро, – или же время замедлилось, чтобы они могли подумать о своей судьбе, или же умирающие думают быстро и ясно, да еще и с идеальной сообразительностью. Так или иначе Два Джо в эти мгновения падения знали, что дело вовсе не в Пэдже. И не в Гэме. И даже не в Натане.
Всё дело было в Госпоже – это она торопила ту малость, что оставалась от жизни Двух Джо.
И опять у них не было времени подумать об этом – да оно им и не требовалось: они уже и без того всё знали, – но по слухам, ходившим среди трущобного народа, среди тех, кто имел связь с Маларкои, Госпожа своим верным слугам после их смерти обеспечивала идеальный рай небесный. Два Джо никогда в это не верили, но об этом говорили на улицах, и обычно тот, кто рассказывал такие байки, узнавал их от какого-нибудь несчастного старика, лишившегося ума, или от изнеженного поставщика Особняка.
Разговоров об этом ходило много.
Они падали и умирали так же, как жили – вместе – и, падая, оба размышляли своим общим разумом: считаются ли они, с точки зрения Госпожи, одними из ее преданных слуг.
Если они были частью ее плана, вовлеченные в него посредством ее доверенного лица Пэджа и его шантажиста Гэма, то не делает ли это Двух Джо по факту ее агентами?
Падая и ощущая свое падение горлом и желудком, они искали ответ на этот вопрос, который волновал их всё больше. Проявление интереса со стороны Двух Джо не было каким-то абстрактным, как у более привилегированных детей, которые воображают себе набор в основном несуществующих выгод и выплат, обеспечиваемых другими людьми. Нет, всё, что было хорошо и плохо для Двух Джо, всегда представляло собой вещи, находившиеся в пределах их досягаемости, а иногда и находящиеся под их присмотром.
Они падали, и сам факт их существования никогда не был более очевидным, чем теперь, столь очевидным, что даже не было нужды фиксировать его словесно, по крайней мере между ними двумя, а потому, хотя скорость их смертельного полета вызвала спазм каждой их мышцы, они пришли к совместному мнению: нужно заверить в их преданности Госпожу. Они решили также простить Гэма и попросить разрешение на участие в заговоре, в котором их используют.
Они смирились, хотя и без энтузиазма, с собственным убийством.
Им не требовалось обдумывать это – это было решение, но оно было принято рефлекторно, потому что это встроено в нервы и сухожилия их существования, – однако это не означало, что их решение недействительно.
Заглянув в лицо Гэма, который спешил скрыться от них, они прочли на нем боль и ужас от осознания того, какой поступок он совершил по отношению к своим друзьям, а потому они смотрели на него максимально прощающим взглядом. Два Джо простили его в своем сердце. Более того, они благодарили его, поскольку теперь либо они ударятся о крыши и умрут, а потом Натан воскресит их – а такая судьба уникальна – и сделает всюду знаменитостями, либо они умрут на службе их Госпоже, исполняя ее требование, а потому попадут в идеальный небесный рай.
И вообще не лучше ли умереть за дело, чем быть убитыми другом?
В их власти было сделать выбор между двумя этими вариантами.
Да и выбором-то это нельзя было назвать.
Они упали, упали вдвоем, их общее тело было вдвойне напряженнее, а потому, когда они ударились о балку крыши, то удар получился такой силы, что их спина разломилась на две части и побила черепицу.
Знает ли проснувшийся человек, сколько он проспал? Только после того, как посмотрит на часы, а у Двух Джо часов никогда не было. Они даже были не очень уверены в том, что бодрствуют, потому что реальность, в которой они проснулись, имела такую неухоженность, какую можно увидеть только во сне, но никак не в том мире, который они знали. Совершенно очевидно, что теперь у них было два тела на двоих. Или по меньшей мере у них были две формы, потому что эти их проявления были прозрачны, изящны и не чувствовали боли, они были идеальны, и Два Джо никогда бы прежде не подумали, что могут иметь эти свойства.
Их руки, когда они потянулись друг к другу, чтобы потрогать лица, поражаясь тем фактом, что видят себя и друг друга в первый раз, имея теперь разделенные тела, как все остальные люди, общупывали друг друга, как две волны, катящиеся на берег – эти волны взаимодействуют, но при этом одна не меняет другую в сколь-нибудь значительной мере.
Хотя они были теперь разделены, но все их движения совершались одновременно. Когда поднимал руку один, второй одновременно с ним совершал такое же движение, когда один демонстрировал удивление, то же самое выражение появлялось и на лице второго. Когда один задумывался – они оба поняли это одновременно – в раздумье погружался и другой, словно у них был всё тот же один мозг на двоих, но теперь уже в разных сосудах. Они выросли вместе, они знали это и, хотя теперь разделились, по-прежнему оставались вместе – они были похожи друг на друга, они одинаково чувствовали, они одинаково думали.