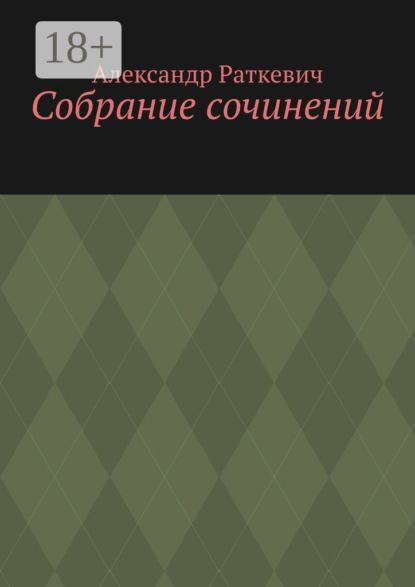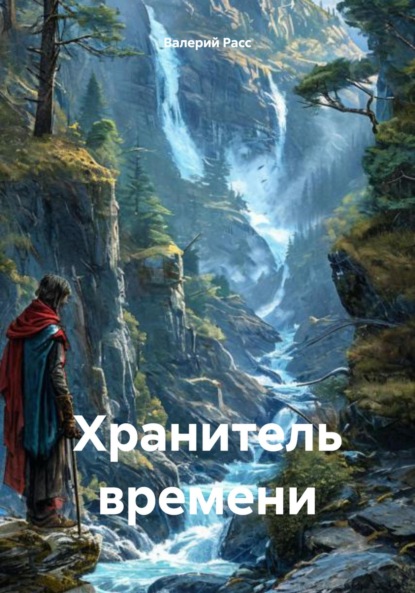Город Госпожи Забвения

- -
- 100%
- +
Без слов легче забыть прошлое и гораздо проще уделять внимание настоящему, и хотя речь всегда оставалась при них, они всё больше внимания уделяли действиям, а не мыслям, и вскоре они узнали все съедобные растения, все фруктовые кусты, каким животным нужно избавиться от избытка молока, какие растения производят нектар.
Кроме них, никого больше не было во всем этом мире тысячи животных, а животные, когда ты говоришь с ними, очень щедры, потому что оснований не быть щедрыми у них нет.
Два Джо помнили хищнический образ жизни, они помнили смерть, но здесь ничего этого почти не было, и хотя со временем существа, которые были здесь, когда появились Два Джо, состарились и умерли, это никогда не воспринималось как насилие, и с той же частотой, с какой овца или лошадь падали на колени и больше никогда уже не поднимались, рождались точно такие, как умершие, ягнята и жеребчики, а потому грусть не задерживалась.
Два Джо помнили цинизм и малодушие, но такие вещи процветают только в царствах вроде Мордью. В этом же месте не было никаких антагонизмов, никакой агрессии, и вскоре Два Джо начали замечать хорошее, а отсутствие зла воспринимали как нечто вполне естественное и ожидаемое.
Когда они прожили в одиночестве десять лет, пришли другие – такие же люди, какими были они.
Эти люди спустились с деревьев, пришли из-под арки, которую Два Джо называли «Врата», поскольку это был единственный выход из того огрызка земли, который они оградили и отвели под землепашество. Эти люди пришли своей тропой, выложенной плоскими камнями, пробрались через камышовые заросли вокруг пруда, который образовался, когда забил первый родник. Они были двойниками друг друга, как в свое время Джо, и по их движениям было ясно, что они «двуедины» – этим словом Два Джо называли друг друга в своих одиночных умах, – потому что двигались, как зеркальные отражения друг друга, и в их глазах всегда оставалось одно и то же выражение, независимо от того, какие ужасы творились с одним из них.
Они были выше, шире в плечах и темнее, чем Два Джо, а их лица у каждого имели свои особенности, хотя до капли походили на все остальные.
Подойдя к калитке, ведущей в огород, они остановились у ног Двух Джо, опустились на колени и принялись распаковывать свои сумки. Внутри находились подарки, завернутые в листья вьющихся растений, – семена и фрукты, спрессованные цветы и вино, всё им незнакомое – эти пришельцы выложили их перед Двумя Джо.
Два Джо, приняв эти дары, отправились в свой маленький дом.
Два Джо переглянулись, они оба не догадывались о том, что будет дальше.
Эти люди не говорили, но это не означало, что у них нет языка или что они не контактируют между собой, вот только Два Джо не могли даже себе объяснить, как пришельцы делают это. Их было больше, пришла только малая их часть, они дали это понять, кроме того, у их мира были и другие стороны, другие способы жизни. Пары обычно делились знаниями на протяжении долгого совместного проживания и зачатия детей, с которыми можно будет тоже поделиться, когда придет время. Для зачатия требовалось две пары, и в конце вечера они показали Двум Джо, что означает перекрестное спаривание двух пар – это и был их способ зачатия детей.
Когда Два Джо ушли в сад, спрятались в лунной тени под яблоней и стали перешептываться так, чтобы не слышали пришельцы, их раздирал смех удивления и немного удовлетворения, но более всего это был нервный смех. Кто были эти люди? Откуда они узнали всё то, что знали? Как они обмениваются полученной информацией? Они сказали это словами, хотя и знали меньше слов, чем прежде, поскольку в этом мире было меньше предметов и даже меньше способов действий с этими предметами.
Не был ли этот мир их миром, спрашивали у себя Два Джо, тем миром, который создала для них Госпожа? Но еще не успев задать этот вопрос, они поняли: она создала мир для них двоих, но и с другими людьми в нем, зная, что одиночество – ужасная вещь даже для двуединых людей. Их она, вероятно, сотворила ресурсами, неизвестными для Двух Джо, чтобы они могли стать кем-то другим, поскольку никто не может вечно дружить со своим собственным образом в отражении, а всё, что они сотворят только для собственных нужд, будет тоже на одно лицо с ними.
Они пошли в свою кровать, тихо поднялись по лестнице и легли рядом с двумя другими, которые уже спали. Один из Джо улегся слева, другой справа, так они и спали до самого утра рядом с двумя другими.
В течение трех сезонов они вчетвером сеяли новый урожай рядом со старым, шили одежду по новой моде, вместо иголок использовали кости, и ночи стали менее тихими, когда новая пара узнала слова, которые еще помнили Два Джо. Теперь Два Джо рассказывали свои истории, а новая пара слушала. А когда истории закончились, новая пара взяла слова и переложила их в песни, и много вечеров поленья в костре выгорали до белого пепла, прежде чем четверка отправлялась наверх спать.
Однажды утром новая пара объявила, что их зовут Квин, и так к ним и следует обращаться – по этому имени, Два Джо немедленно согласились с этим.
В четвертый сезон Два Джо и Квин, которые были на это способны, родили по двойне, что в сумме составило четыре. Квин, которая никого не рожала, сказала: «Это четверашки, в них души наших предков, хотя в ком чья, мы узнаем только со временем. Они забыли себя, эта древняя четверка, так что их вполне можно считать новенькими, то есть все они в комбинации и размноженные. Но в один из дней мы сможем связаться с нашими предками, и они, возможно, не захотят общаться с нами, разве что в их соединенной форме, потому что, как говорят, что четверка вместе лучше, чем четверка по отдельности, и многие предпочитают именно такой вариант».
Произведенных таким образом на свет детей Двух Джо и Квин положили на сшитое из чистой ткани лоскутное одеяло на кровати, и все в этой четверке были на одно лицо, потому что, как Два Джо и Квин – они появились на свет из разных чрев, но зачаты и рождены были вместе. Они одинаково корчились, одинаково кричали и кормились в одно время, а каждый Джо и Квин обеспечивали для этого все условия. Засыпая, они засыпали одновременно, и даже если один находился в люльке, а другого уносили в поля в заплечной сумке, то, что пробуждало одного ребенка, пробуждало и других, какое бы расстояние их ни разделяло.
Зубы у них появлялись в одно время, ходить они начали в одно утро, и хотя по мере роста особенности их душ создавали в них различные личности, родовые связи никогда их не оставляли.
Квин были гораздо старше Джо, они существовали в мире и жили еще до появления Двух Джо; Госпожа, найдя подходящее царство и определив пути его развития, переселила туда своих подданных, а в один из дней Два Джо нашли их мертвыми. Они вдвоем шумно спускались по лестнице, звали детей, которых назвали Джинн, – составили это имя из имен родителей.
Когда Два Джо упали на землю, убитые скорбью, их дети, которых Квин обучили безмолвному языку, помогли им подняться и отвели в сад, в одной части которого они валили деревья. Они вырыли здесь могилы достаточной глубины, чтобы Квин со временем удобрили почву.
Этот участок они не должны вспахивать, как, по словам Джинн, того требовал обычай.
Когда по пришествии следующего, четвертого сезона Два Джо по-прежнему оставались в скорби, Джинн как-то сказали им, что они уходят. Сначала они сказали это на безмолвном языке, потом словами, потому что Два Джо так и не освоили навыка правильно слышать безмолвные слова. «Хотя мы молодые, а вы пока не умерли, – сказали они, – мы пойдем поищем других, кто изготовит для нас сосуды, в которых души Квин могут родиться заново. Может быть, это облегчит ваши страдания».
Два Джо подошли к ним и положили руки им на плечи, так безмолвно они попросили их остаться, а еще сообщили, что страдания – это то состояние, в котором они родились, ничего другого и не предполагалось.
Джинн словами ответили: «Когда вы умрете, мы сделаем новых четверашек, и тогда в согласовании с Квин вы узнаете, как можно не страдать, поскольку в этом месте страдание не является необходимостью, но является следствием разделенности, которое никто из нас не хочет узнавать».
Пришли другие, были наделаны новые дети, ферма расширялась, дети уходили, приходили другие.
Шли годы, и Два Джо приблизились к смерти, они собрали всех у своей кровати и открыли своим отпрыскам знание, сделали это причудливой голосовой речью, чтобы ни слова не пропало.
Вот что они сказали: «Ухаживайте только за той частью плодородной земли, которую сможете возделать. Разметьте ее маркерами. Удалите из земли острые камни и приготовьте почву. Три части отведите для выращивания еды, одну часть для создания шалаша.
Когда кто-нибудь придет в ваш дом, расчистите перед ними дорогу и предложите ту еду и питье, которые нравятся вам больше всего.
Когда появятся дети, хольте их, учите их фермерствовать и в конечном счете отправьте куда-нибудь из этого места, закрепленного за вами, пусть они найдут себе новое место и будут приняты в нем. Если они не захотят или не смогут уйти, то направьте их силы на работу по ферме, пусть занимаются этим, пока могут или хотят.
Когда кто-то умирает, приготовьте ему место под землей, не пашите землю в этом месте, а приносите ему подношения на их долгое счастье. Уменьшите размер вашего крова на тот объем, что раньше вы предназначали умершему, и снова сделайте это пространство пригодным для выращивания всякой живности, чтобы жизнь всегда имела право и чтобы вы чувствовали отсутствие ваших близких по ограниченному пространству, оставленному вам для жития.
По мере умирания вокруг творите новую жизнь и всё время ставьте себе новые ограничения, пока вам не останется только одно – отдать ваше последнее маленькое пространство, в котором вы творили жизнь, для собственной смерти.
Позвольте тем, кто не знает вас и не знает тех, кого вы любили, заявить свои права на землю, которая когда-то была размечена вами. У них не будет предрассудков касательно обработки земли внутри тех пределов, что прежде вы отвели для захоронения ваших мертвецов.
Пусть все мы в нашей смерти сгнием и станем плодородной почвой для других землепашцев. Пусть наши близкие посредством трансмутации почвы позволят передавать свою любовь в виде еды тем, кто вспахал наши души, позволят им принять других в пределы размеченных границ.
Души мертвых должны возродиться спустя поколения, чтобы они могли узнать, как жили их близкие. Они придут в телах новорожденных – вот почему новорожденные иногда плачут, а иногда смотрят удивленно, переполненные всем, что видят – хотя вскоре забудут о свои прежних “я”, познакомятся с этими заповедями и начнут всё заново».
Госпожа, узнав о заявлении, сделанном Двумя Джо, вернулась к ним, когда они умирали, женщиной, сотворенной из света. Они внесла в их план всего одну поправку о том, что все второрожденные дети в этом царстве должны соединиться с ней в ее раю небесном, чтобы служить ей там и помогать в ее работе, которая требовала многих рук. Два Джо в своем неведении не сочли это требование обременительным, хотя их и беспокоила мысль о том, что потеря детей, которых они могли бы воспитать, ввергнет в грусть их потомков, а потому Госпожа согласилась превратить это царство в такое, где естественная любовь к этим детям перейдет в естественное желание передать их ей, чтобы они могли жить в ее Раю на небесах, и это желание не должно подлежать оспариванию разумом, а должно приниматься как верное.
Она своей ворожбой привязала это царство к Пирамиде, защищенной на ее шестом уровне, ответив этим на единственное возражение Двух Джо, таким вот образом и было создано царство Всеразличных Призраков. Госпожа дала в нем жизнь Двум Джо, и царство в течение огромного числа лет процветало и благоденствовало, и закончило свое существование, только когда Два Джо, теперь многократно размноженные, были вызваны к их владелице, после чего их царство было уничтожено Ассамблеей, но эта история для другого случая.
Ее церковь
Когда Дашини еще была маленькой, Порция взяла ее на четвертый уровень для крещения.
Порция издавна принимала этот ритуал как часть религии, давно уже умершей, и хотя о самом ритуале она мало что помнила и не могла толком объяснить, для чего это всё делается, но чувствовала, что теперь некоторая разновидность церемонии будет вполне уместна.
Она спустилась по лестнице и материализовала себя и Дашини у речного берега близ друидской деревни. Там она вызвала к себе народ, и поскольку она была для них богиней, они пришли. И она сказала: «Этот ребенок будет для вас как дочь, драгоценная и достойная любви. Возьмите ее, заботьтесь о ней и крестите ее, по прошествии семи дней вы вернете ее мне».
Она собралась уходить, но один из друидов почтительно спросил ее, что означает слово «крестить».
– Окунуть ее в воду? Что-то в таком роде? Сделайте ее святой.
По толпе прошел шепоток, а потом почтенный друид сказал:
– А разве она уже не святая?
Порция рассмеялась.
– Что ж, – сказала Порция, – она – святая казнь египетская, в этом можете не сомневаться.
Дашини крепко обхватила ногу матери, и Порции пришлось разнимать ее пальцы.
– Иди, детка, – сказала она, – иди и поиграй с милыми друидами. У них есть несколько хорошеньких волков – они тебе их покажут. А еще у них есть олень.
Дашини попыталась еще раз ухватиться за ногу Порции, но та отошла от девочки.
– Покажите ей Стаю Волков и Белого Оленя, – сказала она друидам. – Я скоро вернусь. Не позволяйте ей слишком уж озорничать.
С этими словами Порция ушла.
Дашини осталась одна, ее маленькие кулачки молотили по материи платья на ней, ее перья медленно сползли по ее спине.
Двое из друидов – Игрейни и Горлоис – подошли к ней. Дашини попятилась от них, но они опустились на колени в траве чуть поодаль от нее и поманили ее к себе. Некоторое время она стояла без движения, но друиды улыбались и продолжали манить ее. В конечном счете она подошла к ним со сжатыми кулачками, ее перья всё еще оставались поникшими.
Они повели ее в деревню в лесу, легонько положив руки на ее плечи, чтобы направлять в нужную сторону.
– Мы не умеем крестить, – сказал Игрейни, – но мы умеем играть.
– А потом мы можем пойти поплавать. – Горлоис показал на излучину реки и ветви плакучей ивы, достающие до воды. Там была и утка с утиным выводком. Была там и выдра.
Дашини переводила взгляд с одного друида на другого, но от застенчивости ничего не могла сказать.
– Кушать хочешь? – спросил Игрейни.
Дашини ничего не сказала, только слегка кивнула.
Горлоис улыбнулся.
– Кажется, у нас есть немного рагу, – сказал он.
Дашини разжала кулачки, перестала молотить ими по платью. Сначала она ухватила за руку Игрейни, потом Горлоиса. Когда они взяли ее за руки, она, неожиданно проникнувшись энтузиазмом, побежала в направлении деревни и потащила друидов за собой, потом оглянулась посмотреть, всё ли в порядке, но беспокоиться ей было не о чем, они поравнялись с ней, а потом Игрейни и Горлоис одновременно подбросили ее в воздух.
Дашини захихикала, а когда приземлилась, прокричала:
– Еще!
Ее зверушки
Наш феникс, наша огненная птица, не появляется на свет из чрева матери и не вылупляется из яйца, а когда выходит на свет божий, то весь в крови своей жертвы. Заостренный и слипшийся клюв противится его первому крику, и нет никого, кто мог бы шлепнуть его, чтобы он издал хоть какой-то звук. Чтобы выразить протест своему явлению в наш мир, он должен приложить к тому усилия – у него нет матери, которая слизала бы с него слизистую пленку, у него нет матери, которая разорвала бы его пуповину.
У него нет никого.
Его руки – поначалу они слабы. Его ноги – они не могут его удержать. Его крылья лоснятся перьями, они не желают расправляться. У феникса кривая спина.
Всё это объясняется местом его происхождения – другим местом – откуда он вышел, откликнувшись на зов. Футляр, из которого он извлекается, тесный, темный и недобрый, точно так же недобра и яркость новой свечи для тонкого глазного кружева – яркость обжигает его. Всё то, для чего он был сотворен, осталось позади, и вот он здесь.
Вот почему он злится с самого своего момента рождения: он нездешний, и он не просил, чтобы его доставили сюда.
Вокруг него собираются празднующие, и мы не принадлежим к тому типу существ, который нравится ему. Он нас не узнаёт или не знает, а мы не узнаём его – в отличие от матери, которая в новорожденном видит себя в миниатюре. Вместо этого мы киваем ему и поем молитву на языке, которого он не понимает. Когда он, наконец, издает пронзительный крик, мы не начинаем его ласкать, или любить, или прижимать к груди. Мы выпроваживаем его на свет, а он спотыкается, когда мы его подталкиваем.
Ни один из новорожденных не бывает в большем одиночестве.
В нашей Золотой Пирамиде много палат, в некоторых обитают его братья: его двойняшки, его тройняшки, и его четверняшки – сиблинги, в невероятных количествах, – их сотни, все они привязаны к десятилетним детям, рожденным в этот день, принесенным, раскрытым и недвижимым.
Когда феникс достигает дня, в который ему было предопределено проснуться, то происходит это после множества поворотов и множества лестниц, где он спотыкается под наши одобрительные выкрики, скользит под нашими взглядами на четырех коленях, тормозится своими маховыми перьями, скрежещет по песку, прилипает к паутине и москитам, в ушах и глазах у него звон, потом его ослепляет солнце. Если он теряет пух в своих трудах, мы поднимаем этот пух, кладем под наши шали, а потом делаем из него красную тканую материю. Нас не волнует, что он, вероятно, будет лыс. Или что его кожу обжигает.
У него всего одна цель, знает он об этом уже или нет.
Госпожа дала нам необходимые заклинания, показала нам путь, и мы теперь вызвали его к жизни. Часть существования есть действие, и он должен действовать так, как действуют фениксы, а они всегда действуют по указке Госпожи. Ему ничего не нужно говорить – все эти сведения либо уже в нем, либо он решает делать то, что делает, зная, как знаем и мы, что это нравится Ей. А может быть, та или иная сущность делает то, для чего создана; о причинах вопрос не стоит – он видит, что делают другие, и делает то же, что они.
Когда крылья феникса высыхают, а кровь отшелушивается на солнце и ветре, тогда они раскрываются, как летучие змеи, чтобы поймать ветер и большую волну, натягивая до упора свои бечевки. Они поднимаются в воздух – все остальные фениксы, – чтобы стать огромной алой стаей на фоне голубого неба. Он оглядывается, он моргает, но никого не видит на земле, кроме нас. Мы – низменные существа, бедные и растраченные, ждущие своего времени, когда Она заберет нас в Ее царство, возьмет для своих заклинаний наших детей, родившихся вторыми, но его братья суть великолепный вихрь и пикирование демонических сил, нарушающих своими криками тишину.
Никто из умеющих думать не захочет при виде этого занять наши места – прижатых к земле, наполовину в ней, – когда он может обитать в воздухе, способный летать и могущественный.
Он бросает себя вверх с земли, падает на небо, там уж он не потеряется – он там среди своих, а воздух в его краях такой же, и скрежет такой же, и давление ветра, которое толкает его то в этом направлении, то в другом, и близость его собратьев – всё это неизменно. Может быть, всё выглядит так, будто его никуда и не звали – огромная стая, ее коллективная воля, петли, повороты и маневры – только голубое небо и даже его исчезновение в сумерках.
Внизу – я вижу это его глазами – находится Пирамида, ее треугольники, превращенные в квадрат его взлетом, красно-золотым в лучах заходящего солнца. На мгновение она там, а затем они забирают его с собой, и он покидает нас. Дыхание с привкусом пороха, серы, сверкающие глаза.
Он жаждет явления демона громадных размеров – чтобы был как остров и гора, пожирающая землю. Демон сжевывает мантию, пьет лаву, уходит вниз под поверхность и под пробитые водоносные горизонты, его руки посылают вверх фонтаны пара – мир горячих туч, покрытая туманом вселенная, пронзенная извержениями. Увлекшись, демон оставляет незащищенной свою спину для каждого феникса, который бросится на нее, другой феникс склевывает беззащитную плоть, а на кожное покрытие, словно на охлаждающуюся скалу – базальт, андезит, риолит, – бросается другой брат, чтобы обнажить новую, вкусную плоть.
В нашем мире нет такого демона, нет питательной среды, да она ему не понадобится, поскольку он и дня здесь не проживет, но их тянет к Морской Стене врага, туда же устремляется и стая, всё это время подчиняясь своим инстинктам, движется, руководствуясь своим желанием двигаться, но всё время к той стене.
Он исполняет волю Госпожи, как и все они, всегда, и он исполняет Ее работу, хотя и не знает этого. Она знает его, знает, что он будет делать, поэтому-то она и привела его сюда нашими заклятиями и нашими жертвами.
Ворона летит по прямой, но феникс – не ворона. И только когда уже мочи нет терпеть, удовлетворяет он собственные потребности. Благороднее летать, чем есть, благороднее умереть, чем есть, а есть только для того, чтобы летать, а летать, чтобы умирать, чтобы другие могли есть – таковы убеждения демона-феникса, который рождается из каменных яиц в глубине Холодной Бездны и предвосхищает самых могущественных пожирателей мира в одном царстве, далеком от нашего.
Она возьмет его – ему нет нужды бояться – и даст ему то, чего он жаждет. Госпожа разбирается в сердцах всех лучше всего и в своем милосердии удовлетворяет их. И не страх заставляет его медлить, когда стая взлетает всерьез. Когда они знают, что добыча близко, они летят стрелой, быстрее луны, всегда рядом с тобой, как бы быстро ты ни бежал.
Но он медлит.
Мы сломали его нашим невежеством, нашей грубостью к нему, вялым бормотанием приглашения – в его левом крыле соединились две косточки. Они неразделимы, и он не может растянуть крыло как следует, и хотя он двигается в том же ритме, старается остаться среди них, стая бросает его, и свет уходит в воду, солнце уменьшается до мелкого уголька на горизонте, и вскоре он остается один.
В его мире это позор и голод. Если он не может умереть, то должен примириться с едой, его место внутри кожи демона, обеспеченное его поздним явлением, смертью брата, его гнетущими обязательствами. Он летит туда, куда, по его мнению, улетели они, чтобы занять свое место за этим ненавистным столом с теми скорбными собратьями, что уцелели во время той атаки на стаю и предполагают в следующей волне взять реванш за это поражение.
Без света он ничего не видит, а при отсутствии вибраций в воздухе он не может определить, где впереди машут крыльями. Он не может слышать их, и вскоре внизу появляется земля – акры переломанной вдоль и поперек дернины, расколотой и угловатой, освещенные огнем в лужах стоячей нефти, освещенные вспоротыми каркасами горящих домов.
Феникс не понимает таких вещей, и его это непонимание не волнует, он продолжает полет, хотя отчаяние и голод согласованно растут внутри него, и в нем ни разу не просыпается ощущение присутствия кого-то еще. И они не зовут его, не возвращаются за ним, чтобы забрать с собой.
И дни проходят в одиночестве.
Теперь на земле много людей – солдат, как мне кажется, насколько я понимаю в таких делах. Они собираются под флагами с крестами, эти солдаты, на их палатках начертаны кресты, как и на крышах их машин, и на их нагрудных щитах. Повсюду кресты, и в центре стоит огромный крест, которому поклоняются сотни солдат, все они прикасаются к нему руками, все гладят его. Он притягивает к себе и феникса, хотя тот больше всего хочет лететь. Садиться на землю унизительно, но земля притягивает его, как и крест в центре, как и все эти мужчины и женщины.
Я вижу, как он приближается, и они его видят – показывают пальцами.
В его мире есть всего несколько видов, которые относятся к нему, как к еде, и они принимают его, как яйцо, еще даже до того, как он проснется – по этой причине он не боится даже пожирателя мира, – но это не означает, что он не знает разницу между «есть» и «быть съеденным», поскольку он сделает это, если не будет иного выбора, и постыдные женщины хотят от него этого, хотят поглотить его и манят его к себе.
Улыбки и смех.
Но у него еще остались ресурсы. Он набросится на них неожиданно, когда подберутся поближе, и тогда их улыбки погаснут, и смех тоже, и он из собственных перьев разжигает пожар у себя в животе. Женщины видят это и выпускают его, что он воспринимает как неожиданное и радостное избавление от уз, и взмывает в небо, в прохладный воздух, охлаждается, а внизу меркнут кресты и вдруг превращаются в озеро, а он в своем восторге поднимается выше, и выше, и выше.
Когда восторг меркнет, он снова оказывается в одиночестве и может лететь к своим братьям.