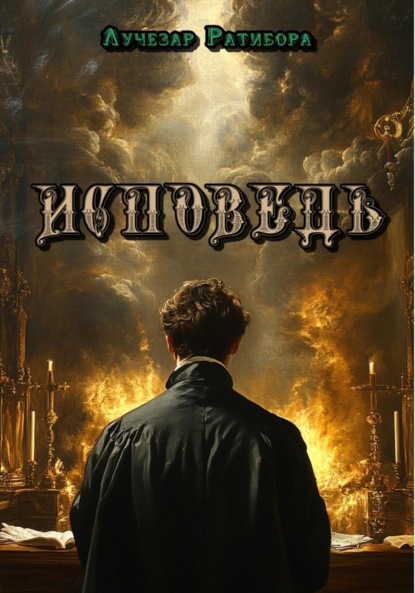Город Госпожи Забвения

- -
- 100%
- +
Вдалеке мелькает свет птичьей смерти.
На мой взгляд, это красная молния, но он знает тайное имя каждого из них, когда они занимаются пламенем, и каждому он взволнованно кричит, зная, что они сотворили из своей жизни гордую песню. Он пикирует, чтобы соединиться с ними, но его зрение превосходно, и он видит, что они всё еще очень далеко.
Это убийственное расстояние, которое превращает тела его братьев в золу, в пепел, заканчивается в спиральном городе Мордью, который представляет собой отпечаток пальца на конце вражеских амбиций, его Стена – водоворот, его Стеклянная Дорога – петля, всегда указующие на смерть. Я это знаю, потому что это известно всегда и всем, и когда петля превращается в ничто, измельчается в порошок, подобный облачку над пудреницей, поднимаемому пуховкой, красные щеки белеют и в воздухе повисает чудесный запах женственности, ты ничего не можешь поделать со своим сердцем, оно непослушно бьется всё быстрее – мое сердце – оно, как и дорога, вражеская территория.
Братья феникса напевают песню его победы, я вставляю слова: благодарственная молитва Ей, и в ответ Она обрушивает Морскую Стену и устанавливает водоворот в море, и в него – всё еще в кромешной дали от него – стая стреляет пометом, обкладывая кирпичи рухнувшей стены под водой. А те, кто не делает этого? Они бросаются в пламя на более сухой земле.
Когда он добирается до города, никого из них уже нет.
Какой восторг может вызывать смерть в отсутствии? Как можно этим ублажить свою гордыню? Что должна сделать птица-феникс, когда не может ни съесть плоть демона, ни обнажить эту плоть для своих братьев? Делать фениксу нечего, разве что скорбеть, и он делает это, возвращаясь к месту своего рождения, он рыдает над прахом, надеется на смерть, страшась стыда возвращения в новорожденную стаю, которая встретит его издевками.
В своих снах наяву он видит то яйцо, сворачивается назад в него, возвращается в состояние той холодной жидкости, из которой он и возник, и я чувствую, как его скорбь растворяет меня внутри. От него не остается ничего, кроме полета вслепую, контуры этого полета проявляются на невидимых кривых чувств, которыми я не владею, и зрение возвращается в мои глаза, звук возвращается в мои уши, сера горит в глубине моей глотки. Он там, но теперь только в виде близости, как нечто, ощущаемое любовником в темноте, знание, что тут присутствует другой при полном незнании о них самих теперь, когда они разделились.
Потом я под воздействием внешних сил исчезаю с того места, на котором стою лицом к дверям Пирамиды моей Госпожи. Ничто не возвращает меня на прежнее место, Ничто не сбивает меня с ног, Ничто не зарывается комком в пыль, пока это Ничто не становится собором, достаточно высоким, чтобы поглотить Пирамиду и всё, что в ней есть. Звук такой глубокий, что феникс ощущает, как звук гремит его полыми костями, это Ничто иссякает под ударами колокола, с дрожью укатывает по земле. Теперь перед нами стекло, бусина, хрустальный шар, в который помещена наша Пирамида.
Он снова открывает глаза и видит это. Он видит меня, а я вижу его, он отражен в радужном зеркале этого кривого и полнотелого Ничто. Моего феникса, с которым я связан жертвой, моя дочь отдана ему, а я получаю награду в виде этой связи и Ее идеального рая небесного, и он связан со мной, его награда – птичья смерть.
Но его награждение откладывалось мною, нами, мы низменные участники праздника Маларкои, нашими плохо произнесенными заклинаниями.
Он узнаёт меня, нашу связь, мои мысли, и пикирует в своей ярости.
Я чувствую это, его перья трепещут в турбулентном воздухе, вибрируют в тональности колокола, а потом приникают к его телу, восторг идеального контакта перьев с кожей под ними, радость убийцы при виде жертвы. Его сердце празднует мою неподвижность, принимая ее за паралич, за то, что она есть на самом деле, и его возбуждение заставляет его вспыхнуть, каждый дюйм горит, приуроченный точно ко времени, а потому, когда он сталкивается со мной, я взрываюсь до того, как меня успевает раздавить его масса, и мы горим вместе, заклинатель и заклинаемый, оба ставшие жертвой, от нас идет световая рябь, словно кровь по поверхности сферы, звуки нашего разрушения отдаются эхом.
Итак, мы умираем.
И теперь мы стучим в твою Дверь, Госпожа, и умоляем впустить нас в наш рай небесный, где мы оба найдем счастье в твоем присутствии.
Ее ребенок
Король Теней, когда-то проникший с пятого уровня на шестой, появляется в спальне Дашини.
У нее на прикроватном столике стояла ваза с единственным засохшим одуванчиком. Она давно сорвала этот цветок для своей матери, но поскольку Порция отсутствовала, Дашини сплющила его, положив в книгу, которую читала мать. Когда Порция вернулась и открыла книгу, цветок выпал на пол, и она случайно затолкала его ногой под кровать.
Это не может быть воспринято как свидетельство пренебрежения, это не может быть воспринято как отсутствие необходимых материнских чувств в сердце Порции.
Просто так случилось.
Дашини вошла в комнату матери на следующее утро после ее возвращения и обнаружила, что мать снова убыла куда-то. У Госпожи всегда есть неотложные дела.
Из этого факта невозможно сделать какие-нибудь отрицательные выводы.
Маленькая девочка опустилась на колени и увидела свой одуванчик в пыли под кроватью.
Не вина цветка, если его никто не видит. Это не дает оснований для того, чтобы его смять и выкинуть в мусорное ведро. Цветок всё еще красив, а потому Дашини взяла его, нашла для него вазу, поставила в нее цветок, а вазу – на свой прикроватный столик.
Когда Порция вернулась на сей раз и пришла обнять дочь, она, увидев цветок, сказала:
– Какой красивый цветочек.
Дашини не сказала матери: «Это твой. Я для тебя его сорвала». Потому что за этими словами неизбежно последовали бы объяснения: если одуванчик был подарком, то как он оказался в вазе на столике Дашини. Ей пришлось бы объяснять, как тяжело переносить отсутствие матери, когда хочешь подарить ей цветы, отсутствие матери, когда хочешь подарить ей засушенный цветок, отсутствие матери, которая нашла бы засушенный цветок своей дочери, спрятанный в книге, а не случайно ногой затолкала его под кровать.
Дашини ничего не сказала матери, она только улыбнулась и позволила ей поцеловать ее в лобик, а потом заснула.
Когда Король Теней перебрался из пятого уровня Золотой Пирамиды Маларкои в шестой, то сделал он это благодаря тени того одуванчика. Он ввел малюсенькое изменение в реальности его царства, такое незначительное, что оно действовало практически без энергии Искры. Это позволило ему удлинить тень одуванчика, образующуюся при горении ночной свечи в канделябре в спальне Дашини, и теперь эта тень стала падать на ухо спящей девочки.
Таким образом ему удалось наслать на девочку страшный сон. Госпожа, ее мать – вот только чуть более яркая, чуть более отчетливая, – отвела дремотную Дашини к Господину, она, держа дочку за руку, вела ее под дождем по темным улицам Мордью, по трущобному кварталу к тому месту, где начиналась Стеклянная Дорога. Они вдвоем пошли по стеклу, которое скрежетало у них под ногами. Мать ее твердо держалась на ногах, но Дашини поскользнулась, Дорога требовала, чтобы девочка шла вниз и никогда вверх, и Порции пришлось тащить ее до боли в руке.
Когда они добрались до самого верха, озадаченный Господин подошел к своей двери.
– Почему ты здесь, Порция? – спросил он.
– Этот ребенок будет с тобой, как дочь, – ответила мать Дашини, – драгоценная и достойная любви. Возьми ее, заботься о ней, верни мне ее через семь лет.
Эти слова не убавили удивления Господина. Напротив, к недоумению добавилась суровость, выраженная хмурыми морщинами на лбу. Его губы свернулись внутрь, и Дашини увидела его зубы, его осевшие десны, отчего корни, как корни одуванчика, переплелись в его рту.
Она в ужасе развернулась, но ее мать исчезла, и пока она разглядывала мир в поисках матери, переводя взгляд с места на место этого ужасного и одинокого города, Господин положил руку ей на плечо.
– Внутрь, – сказал он.
На следующее утро Госпожа обнаружила брешь, проделанную Королем Теней в ее царстве, заделала ее заклинанием, но страшный сон никуда не делся, прочно застрял в голове Дашини. Хотя она и не помнила, что видит его, он посещал девочку каждую ночь и, в тайне ее спящего разума, поведывал ей правду о ее жизни, говорил, что она одна в этом мире.
Часть вторая
Как она сражается
I
Назад в Мордью
НА БОРТУ КОРАБЛЯ, даже такого хорошо оборудованного, как «Муйрху», очень мало личного пространства. Капитан Пенфенни ударом ноги распахнула дверь в свою жалкую каюту так, что стекло в окне задребезжало, и она в отчаянии готова была кричать от ярости до самого дна ее легких, но ей совершенно негде было это сделать. Если бы она нырнула за пустые ящики, то ее неблагодарная, грубая команда из морских пехотинцев увидела бы перья ее шляпы, торчащие над ящиками и подрагивающие. Шкаф был слишком низок и недостаточно глубок для нее – в нем она не могла встать в полный рост, даже если бы он не был набит покрытыми плесенью униформами. Залезать в пустую бочку было ниже ее достоинства.
Выбора у Пенфенни не оставалось – только держать свою ярость закупоренной.
С горькой улыбкой, каламбура ради, она откупорила бутылку вина из своего уменьшающегося запаса, счистила кристаллический налет внутри горлышка с помощью пальца и рукава и налила себе почти полную кружку. Красная жидкость осела в кружке, наклонилась в одну сторону, потом в другую в согласии с качкой судна. Это напоминало ей о головных болях и суши во рту, но, расчетливо повернувшись спиной к дверям, чтобы широкие поля шляпы скрывали ее стыд, она, невзирая ни на что, до дна опустошила кружку.
Прежде чем вернуть пробку в горлышко, она налила себе еще порцию, прикусила губу и тяжело оперлась на край рабочего стола для карт.
В море моря́чка полагается на готовность людей, окружающих ее, закрывать глаза на то, что она не может скрыть – но тем не менее вынуждена скрывать, – понимая, что и ей придется отплатить той же монетой. Но такие монеты требуют доброй воли, и таковая изобилует на корабле в той же мере, в какой изобилуют выплаты экипажу: иными словами, равны нулю.
Она сунула бутылку под стол и снова взялась за оловянную кружку. Кружка была потускневшая и со вмятинами, эмаль с поверхности почти сошла.
Есть некая кровавость в крепленом вине, которое пьют из непрозрачного сосуда. Это можно преобразить – с хорошей компанией, при свечах, когда вино разлито в хрустальные бокалы – в приятную глазу яркость, но такое преображение на этом скрипящем, мрачном, отчасти обреченном судне невозможно. Она опрокинула кружку, и вторая порция застряла у нее во рту. С трудом проглотив ее, ей пришлось напрячь желудок, чтобы он не устроил мятежа.
Они могли увидеть ее через маленькое оконце в двери, а значит, могли разглядеть и тяжелый вздох в движении ее плеч, поэтому Пенфенни не вздохнула, хотя именно это и хотела сделать. Вместо этого она туго затянула на себе пояс, на одну дырочку дальше обычного. Она перевела дыхание, распрямила спину и вернулась к своим проблемам – третью неделю экипаж не получает ни гроша, и пройдет еще одна, прежде чем она погасит в порту задолженность по кредиту, после чего сможет под грабительские проценты взять новый кредит в расчете на доход от следующего плавания. Этот цикл был тяжел и бесконечен, и она опасалась, что вскорости банкротство положит ему конец.
Походило вино на кровь или нет, но она выпила остатки вина из кружки.
Нив была у двери, прежде чем улеглось жжение, и вошла до получения разрешения.
– Ойсин говорит, рыбу надо отпустить, – сказала она, даже без формального спектакля почтительности.
– Нет, – ответила Пенфенни. – Она потянет сети и раздерет их. Нам нужен час.
– Я ему так и сказала, а он говорит, что нет никакой разницы. Рыбу нужно отпустить, говорит он, а если сеть порвется, значит, порвется. Он говорит…
– Я говорю, нам нужен час. Я командую на этом корабле, и я не…
– Скажи это Ойсину, – сказала Нив, развернулась и вышла, даже не поклонившись.
Пенфенни вытащила бутылку из-под стола, поправила на себе шляпу, отказалась от всякого притворства. Отхлебывая из горлышка на ходу, она последовала за Нив на палубу.
Ойсин, моряк, который выглядел бы совершенно обычно, если бы не бросающееся в глаза отсутствие у него носа, разговаривал с укротителем, которому ей пришлось заплатить вперед в последнем порту, после того как погиб его предшественник, раздавленный между рыбой и будкой укротителя.
– Ты чего ждешь? Укроти эту чертову рыбу! За что я тебе плачу? – Эти слова она обратила к Ойсину, соблюдая порядок субординации, которая, при всей ее натужности, спасала их от холодной смерти в морской воде.
– Платишь мне? – спросил Ойсин. – Это что, шутка?
Пенфенни открыла рот, собираясь сказать что-то в ответ, но Ойсин не позволил ей – он ткнул ладонью в плечо укротителя.
– Скажи ей, что ты сказал мне.
Укротителю хотя бы хватило вежливости принять пристыженный вид, развернуться и уставить взгляд на свои ноги.
– Не укрощается она, – тихо сказал он. – Никак не укрощается.
– Ты ведь укротитель. Или ты не укротитель?
Ойсин стоял чуть не вплотную с ним, но тот не поднял глаз.
Он был тощим человеком со сросшимися пальцами и обвислыми усами, а ростом на шесть дюймов короче Ойсина или Пенфенни, да и то лишь в том случае, если не горбился. Сейчас же он сутулился и был испуган.
– Я имею удостоверенную лицензию укротителя, могу показать, – произнес он затихающим голосом. – Но меня учили укрощать лошадей, а не рыб, и эту рыбу не укротить. Она не укрощается, не укрощается.
Словно в подтверждение этих слов корабль дернулся вперед, натянув сети, которые были распущены во время прилива и собирали всё, что в них попадало. Теперь они тащились по дну.
– Поднять сети! – рявкнула Пенфенни.
Ойсин кивнул Нив, на что та поджала губы и сложила руки на груди, но когда ее капитан указала ей, проиллюстрировав важность ударами бутылки по дереву, что без сетей нет никакой надежды добыть достаточно рыбы, чтобы расплатиться с экипажем, Нив неохотно отдала распоряжение другим сделать то, что приказывает капитан.
Но спасение сетей никак не повредило рыбе. Когда эту помеху убрали, рыба поплыла с большей скоростью, и вскоре огромная головная волна принялась разрывать прежде спокойную поверхность воды. Каждый удар хвостом приподнимал корабль и подталкивал вперед, пока масса этого существа не затягивала палубу вниз, угрожая затопить, лишь затем, чтобы очередной удар хвостом снова подбрасывал судно вверх и вперед. Те, кто не держался за что-нибудь, осознали свою ошибку и бросились к ближайшему выступающему поручню. Действия, которые недавно требовали немедленного исполнения, теперь стали бессмысленными отвлечениями от действия, которое позволяло оставаться на палубе.
– Рыбий ход! – прокричала Пенфенни, но ее предупреждение запоздало – все, кто чувствовал море, уже крепко держались за что-нибудь, а те, у кого чувство моря отсутствовало, как у укротителя, перекатывались по палубе – казалось, они спешат быть поскорее сброшенными с кормы в водоворот, который оставляла после себя рыба. Кормовое ограждение либо сделает свою работу, либо нет – Пенфенни смотрела только в направлении движения рыбы, и уже тогда, мгновения спустя после того, как рыба двинулась с места, у капитана родилось зловещее предчувствие, куда она направляется.
У каждого моряка есть любимый порт, либо потому, что там проживает его дорогая супруга, либо потому, что там можно получить сладостные, но при этом труднодоступные удовольствия. По закону противоположностей у каждого моряка есть свой самый нелюбимый порт. Именно в самый нелюбимый порт Пенфенни, по ее догадке, и направлялась сегодня рыба – в Мордью, – потому что она уже не раз приводила их туда. По правде говоря, это случалось довольно часто, и Ойсин даже пришел к выводу, что залив Мордью и есть то место, где рыба осела бы, будь у нее возможность выбора, невзирая даже на одержимых волшебством, агрессивных, безжалостных и беспробудно порочных обитателей города. Птицы перелетают в места, где их устраивает климат, мигрируют стада, и эта рыба хочет находиться там, где хочет.
– Может, опустить сети? – спросила Нив, обращаясь не только к экипажу, но и к капитану. – Может, удастся отловить что-нибудь на ходу.
Делалось это просто – разблокировкой кабестана, и в ту самую секунду, когда Пенфенни кивнула, Дарра повернул соответствующий рычаг. Зашуршали тросы, зазвякали крючья, и вскоре всё, что имело достаточно плоти, чтобы не проскочить в ячейки сети, тащилось за кораблем, ожидая момента, когда его вытащат на палубу, ударят дубинкой и бросят в бочку для соления.
Рыба определенно направлялась в Мордью, следуя по мелководью вокруг ушедшей под воду и забытой страны, из которой когда-то поднялся город. Она плыла с такой скоростью, какой у нее не помнили прежде, ее задние и передние плавники работали постоянно, чтобы не сбиться с курса, вода вокруг бурлила, рыба прорывалась на поверхность, демонстрируя свое мерклое и обросшее раковинами брюхо. Наполовину акула и наполовину кит – определить, какая часть ее тела от кита, а какая от акулы, было невозможно в том бурлении, которое она создавала вокруг. Пенфенни желала знать одно: сколько еще ждать окончания всего этого. Они много дней шли на юг, но на малой скорости, часто останавливались от усталости. А теперь они столкнулись с чем-то совершенно иным.
Рыба, казалось, была полна решимости вымотать себя полностью.
Уловив ритм, сходный с ритмическими движениями веслами гребца, Пенфенни смогла без особых проблем перемещаться по кораблю, палуба поднималась под немыслимым углом, но никогда строго вертикально ко дну, и хотя Пенфенни одолевало искушение вернуться в каюту и откупорить еще одну бутылку, она плотнее натянула на голову шляпу и отправилась улаживать отношения с экипажем.
Как выяснилось, экипаж собрался в середине квадрата из бочек, прикрученных к палубе. Проникнуть на эту защищенную площадку можно было только через единственный узкий проход. Да и через него ей пришлось протискиваться. Когда Пенфенни проникла туда, все они сидели на корточках и молча смотрели на нее.
– Надеюсь, я вам не помешала? – сказала она. Она хотела создать веселую неформальную обстановку, но ее намерение явно не увенчалось успехом.
Нив – вечно эта Нив – поднялась, отделившись от остальных.
– Типа как? Рыба плывет – какая тут может быть работа, а? Или ты надеялась, что кто-то из нас окажется за бортом? И тогда тебе не придется выплачивать ему жалованье?
Она оглянулась – не засмеется ли кто, увидела таких, хотя смех был горьким и безрадостным.
Пенфенни сняла шляпу в надежде, что это каким-то образом позволит им понять, что она пришла не для того, чтобы вздрючить их, что с ней хоть раз можно поговорить просто как с человеком, а не с лицом, исполняющим капитанские обязанности. Она замерла, давая упасть волосам, – косу придется кропотливо заплетать заново, когда прекратится эта сумасшедшая рыбья болтанка, – но при этом показала на трубку, которая шла по кругу. Правило состояло в том, чтобы давать трубку любому, кто ее попросит, даже если это ненавистные капитаны, вызывающие раздражение, а потому она приняла трубку, кивнув. Она хотела было протереть мундштук, но подумала, что это может показаться высокомерием, а потому сделала затяжку и вернула трубку в круг, стараясь не думать про обложенные языки и растрескавшиеся губы, побывавшие там, где только что несколько мгновений находились ее губы и язык.
– Я всё сделаю по справедливости, обещаю. – Она закашлялась. – Если мне придется продать корабль, я продам его по справедливости.
Ойсин нахмурился.
– Ты продашь корабль, и мы останемся на улице. И ты называешь это «по справедливости»?
Пенфенни согласилась с ним.
– Тогда я продам его только тому, кто согласится сохранить команду.
Это предложение казалось вполне разумным, но экипаж, услышав ее слова, громко запротестовал.
– Значит, вот как ты про нас думаешь? – сказала Нив. Остальные стали расходиться, испепеляя ее взглядами. – Как о рабах на продажу?
Она, немного расстроенная, как показалось Пенфенни, отрицательно покачала головой. Но расстроенная или нет, Нив пошла следом за остальными.
В вечерний, незнамо какой час, они добрались до Мордью. Город горел – огонь прорывался со всех уровней, кроме самых нижних, где вздымавшийся дым был белее, а пар бил фонтаном. Стеклянной спирали, которая окружала город, нигде не было видно, а всё небо сияло красным. В одном месте Морская Стена была проломлена, и здесь волны заглатывали ее обломки, когда те падали, образуя собственные волны в месте падения, и эти волны расходились по поверхности воды, конкурируя с естественными.
Повсюду были корабли, покидавшие порт. Некоторые из них шли под торговыми флагами, и шли довольно быстро, их паруса были полны ветром. Те, что проходили близ Пенфенни, не имели флагов и были переполнены грустными пассажирами и взволнованными моряками, которые призывали ее развернуться, поспешить туда, откуда она пришла.
Но давать такого рода советы капитану Пенфенни было бесполезно – куда ей плыть, решала рыба – сама она тут ни на что не влияла, как и ее экипаж. Рыба обогнула кривые остатки Морской Стены, направляя свой корабль между других, словно озабоченная безопасностью тех, кто был на ее спине.
Некоторое время капитан Пенфенни была уверена, что рыба направляется к пролому. Может быть, хочет подплыть к самому городу, сожрать нескольких обитателей трущоб, которые надеялись спастись вплавь или выпрыгнуть из воды, приземлиться на склонах и использовать наконец возможность удовлетворить свою тягу к этому порту.
Когда они подошли ближе, за проломом в Стене стал виден жуткий водоворот, он тошнотворно мерцал то голубым, то зеленым, всасывая в себя трущобы. На поверхности воды плавали хижины, столбы и безымянные обломки дерева, скапливающиеся вокруг черноты в середине. Иногда ветер доносил до нее крики, но людей не было видно.
Она всё равно не могла бы спасти их, даже если бы они там и были.
В конечном счете рыба повернула к морю, потянула их на север, но теперь гораздо медленнее. Как трюфельная свинья, копающаяся рылом в земле, она двигалась кругами, опустив голову, затягивала нос корабля под волны. Она не раз вдруг поворачивала назад, и доски взвизгивали в своей обвязке, громко угрожая рассыпаться. Совестливый экипаж противодействовал бы этому, подкрепляя связки и сопровождая это крепким словцом. Но ее люди стояли на безопасном расстоянии среди своих бочек, а палубу поливало соленой водой, и никто не собирался разгонять ее шваброй.
Это продолжалось до тех пор, пока не стало ясно, что опасность для них миновала и им можно возвращаться к своим обязанностям. Члены экипажа занялись наиболее серьезными поломками, причиненными кораблю столь грубым обращением, а Пенфенни вернулась в свою каюту.
Моряки нередко воображают, что у ветра есть личность и собственные основания делать то, что он делает. Пенфенни и ее экипаж были согласны с этим более, чем кто-либо другой, вот только у них внизу, прямо под ними, была рыба, которая плыла целенаправленно, а потому определенно имела собственную волю. Смысл веры в их подвластность воле кого-то другого состоял в том, чтобы примирить моряков с тем фактом, что иногда корабль выходит из их подчинения. То ли им мешает воображаемый разум ветра, то ли вполне реальные капризы рыбы, главная беда состоит в том, что моряки вдруг обнаруживают собственную беспомощность. Если человек, нанятый на черную работу, может отвлечься от этого факта, занимаясь делом, то капитан – чья единственная обязанность состоит в том, чтобы применять власть, – в подобных случаях чувствует собственную неполноценность. Средством для преодоления этого чувства является очень крепкий алкоголь, который может придать человеку на какое-то время некую разновидность безрассудного куража.
С этой целью и держала Пенфенни в своем сундучке для карт бутылку крепкого ароматного бренди. Она надолго приникла к горлышку, дыша через ноздри, когда в этом возникала нужда. Поскольку в ситуации, когда человек выпивает, чтобы набраться храбрости, особо нечего делать, кроме как ждать, когда же кураж придет к тебе, она разыграла в своем воображении некую сцену. В этой сцене ее неплатежеспособность по кредитам явилась к ней в виде вторжения на корабль судебных приставов в следующем порту. Они, эти грубияны ее воображения, бесстрастно взяли всё, что можно было продать, потом они забрали всё, что можно было унести, потом стали разбирать его на доски, а после рыбу убили гарпуном и порубили на части. Собрались работники порта – который только что был Линдосом, а потом превратился Новый Пирей, – веселые и загорелые, и товар был выставлен на аукцион. Остаток средств – после погашения долгов и выплат жалованья экипажу – Пенфенни взяла монетами, которые уложила в кожаную сумку, оказавшуюся на удивление тяжелой. После чего она, насвистывая, ушла прочь.