Тревожная осень 1812 года. Алеся
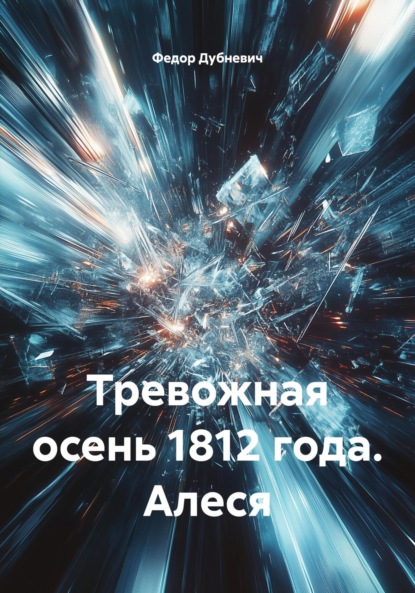
- -
- 100%
- +

Глава 1. Отъезд из Москвы в Коломну.
Прапорщик Софийского пехотного полка Александр Чернышов в Бородинском сражении 26 августа (7 сентября), получил пулевое ранение в левое плечо, и ополченец помог ему дойти до перевязочного пункта, где полковой лекарь в каретном сарае извлек пулю и фельдшер выполнил перевязку, а затем на крестьянской подводе на сене ехали вдвоем, с корнетом Юрьевым, раненым в ногу, в Москву, где находился главный военно-временной госпиталь.
С 28 августа (9 сентября по нов. ст.) в Дорогомиловскую заставу въезжали обозы с раненным в Бородинском сражении и развозили их по Москве десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Стоя у ворот, графиня Анастасия увидела телегу с двумя офицерами. Один из них сидел, другой лежал, Вам бы покойнее на постой к нам. – Не знаю, позволят ли, – ответил прапорщик Чернышов. – Вон идет начальник… спросите. – И он указал на поручика среднего роста, который возвращался назад по улице вдоль ряда телег с ранеными.– Можно раненым у нас в доме остановиться? – спросила она.
Поручик с улыбкой приложил руку к козырьку. – Кого вам угодно, мадумазель? – сказал он, улыбаясь. Немного задумавшись— о, да, отчего ж, можно, – сказал он.
Три телеги завернули во двор графини Денисовой. Офицерам отдали комнату в главном доме, а раненным солдатам отвели флигель.
30 августа (11 сентября по нов. ст.) в Коломну, куда первоначально переводился главный военно-временной госпиталь. Чернышову необходимо было делать перевязки не чаще трех-четырех раз в месяц.
Прапорщик Чернышов нанял в Москве коляску и непеременных до Коломны лошадей и в семь часов утра 30 августа (11 сентября по нов. ст.) тронулись в путь. Чтобы не иметь никакой остановки, и привязанности к почтовым станам, чтобы можно было остановиться, где захочется, или переночевать. Впереди тянулась целая вереница карет, дрожек, крестьянских телег и пешеходов, несущих свои пожитки, в сторону Покровской заставы, выводившей людей на Бронницкую (Рязанскую) дорогу.
Выехав за Москву, прапорщик Чернышов увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с путниками. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел; глядя на осенние поля, припомнилось Бородинское поле и его ранение. Было начало его 19 осени. Выпускник из Дворянского полка в Санкт-Петербурге весной 1812 года, после двухгодичного обучения.
Переночевал на почтовом стане Ульяниново. – Угодно вам ехать, Ваше благородие? – сказал Егор Нилов, денщик Чернышова, войдя в избу. – Лошади готовы. Чернышов сел с Ниловым в коляску. Ямщик тронул лошадей, присвистнул и помчался вдоль улицы.
Русская армия и жители оставляли Москву 1 (13) сентября в 1812 году.
Графиня Ольга Андреевна Денисова, выехала из Москвы за два дня до вступления туда армии Наполеона, изнемогла дорогою от огорчений и суеты и, с остановками, то разбивая палатку у дороги, то заезжая на постоялые дворы, успела добраться только до своего поместья в селе Северском, вблизи города Коломны. При малейшем овраге или холме графиня выходила из экипажа. Северское располагалось в стороне от большой дороги, верстах в девяноста от Москвы и около двенадцати верст не доезжая Коломны. На второй день пути, поздно вечером, не доезжая до Северского, путники увидели за собою большое багровое зарево.
–Мама посмотри, в Москве пожары! – первая вскрикнула ехавшая в карете с мамой Анастасия и младшая Ольга. Экипаж остановился. Кучер и слуги, разглядывая зарево, поднимающееся в небо. Сомнения не было, что армия Наполеона заняла Москву и горожане начали поджигать свои дома. С трудом доехав до Северского, она объявила, что дом нужно привести в порядок и скоро все в обиходе графини, по возможности, было налажено.
В полуопустелой Коломне накупили провизии, а в запущенном флигеле и дворовых избах кое-как разместили прибывшую с графиней и при обозе ее немногочисленную московскую дворню.
– Французы воротились от Бронниц, – говорила графиня, – я теперь покойна; до них отсюда далеко, да их и сторожит русская армия.
В Северском кое-как устроилась жизнь, почти похожая на ту, которую Ольга Андреевна обыкновенно вела в Москве. Утро проходило в одеванье графини, затем Анастасия, в гостиной читала ей что-нибудь вслух. Графиню обрадовал богатый урожай плодов в саду; ей на блюде были принесены ее любимые яблоки.
Вечером, у чайного стола, либо опять было чтение, либо горничная Пелагея и экономка Татьяна поочередно, рассказывали о том, что слышали в тот день от старосты и дворовых о местных и иных новостях. Ложились спать после раннего ужина. В этом селе и в его окрестностях было, впрочем, полное отсутствие новостей с недалекого театра войны. И если бы не член Первого комитета Коломенского уезда Алексей Егоров, отставной поручик, изредка заезжавший к графине с отсталыми газетами и словесными слухами о русской армии, оставившей Москву, можно было бы, глядя на эти мирные поля и обычно копошившихся по ним крестьян, предполагать, что грозная кровопролитная война, выпала на Россию происходила где-либо не в восьмидесяти верстах отсюда.
Погода с половины и до конца сентября стояла теплая, светлая и сухая. Листья на деревьях в саду и в окольных березовых лесах еще были свежи и почти не осыпались. Их зелень только кое-где была живописно тронута золотом, лиловыми и красными тенями. Сельские работы шли своим чередом.
Северские и соседние мужики, посеяв рожь, пахали под яровые хлеба, убирали огороды, чинили свои избы и дворы и ездили на ярмарки и в леса. Старики и бабы по вечерам и в праздники являлись к давно невиданной ими графине, обращались к ней с разными нуждами и просьбами. Свои и чужие мужики просили барыню о дозволении нарубить хворосту в заповедной господской роще, занять в барском амбаре овсеца или круп либо предлагали купить у них собственного изделия сукон и холста.
Анастасия и Ольга искали отдыха в уединении; гуляли по большому саду, окрестным полям, по роще. Они много читали книг, доставленных с обозом из Москвы. Анастасия была очень рада, что в Северское, с обозом, привели ее верхового коня. Иногда садясь на Пегаса, она вечером уезжала в окрестные поля и лес и возвращалась к позднему вечеру.
Сестры были молоды и прекрасны, с голубыми глазами и даже очень походили друг на друга, но отличались цветом волос. У графини Анастасии волосы были светло-русые, а у младшей Ольги цвета спелой ржи.
Французы окончательно покинули Москву 11 октября(23 по нов. ст.). Известие об этом, напечатанное лишь через девять дней в Петербурге, в "Северной почте" от 19 (31 по нов. ст.) октября, достигло села Северского, где в это время проживала графиня, лишь в конце октября.
1 сентября(13 по нов. ст.) в ночь отдан приказ главнокомандующего русской армией фельдмаршала Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.
2(14по нов. ст.) сентября в 3 часа пополуночи русская армия, имея для отступления только один Дорогомиловский мост, выступила двумя колоннами в тишине проходила через Москву.
Войска, шедшие теплой звездной ночью двумя колоннами, не торопились и двигались медленно. Первая колонна проходила через Каменный мост и Замоскворечье. На рассвете войска второй колонны, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя – напирающие, бесконечные скопления войск.
Вторая колонна двигалась через Дорогомиловский мост по направлению к Кремлю и далее по набережной мимо Воспитательного дома. Скрипели под тяжестью артиллерии и обозов опоры 186-метрового Дорогомиловского моста. Его ширина, составлявшая всего 8 с половиной метров, затрудняла быстрое продвижение войск.
К десяти часам утра 2-го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Русская армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою. Стояла необычайная теплая осенняя погода. Солнце светило и блестели купола храмов в его утренних лучах, слабый ветерок нес свежей осенний пахучий воздух. Русские войска отступали за сто- сто двадцать верст – за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются и в продолжение пяти недель после этого не было ни одного сражения.
6 (18 по нов.ст.) октября французы начали покидать Москву, пробыв в ней 36 дней.
Русская армия после оставления Москвы отходила по Рязанской дороге. 6 (18 по нов.ст.) сентября русская армия дошла до Подольска. С целью введения в заблуждение Наполеона Кутузов приказал арьергарду демонстрировать отступление на Рязань. Основные же силы армии 7 (19 по нов.ст) сентября перешли на Калужскую дорогу. Это было выполнено настолько блестяще, что командующий авангардом французских войск Себастиани лишь 10 (22 по нов.ст) сентября донес Наполеону, что он потерял из виду главные силы русской армии. Наполеону с трудом удалось установить, где находится русская армия.
В соответствии со своим планом Фельдмаршал Кутузов отдал распоряжение о переходе русской армии от Тарутина к Малоярославцу, прямо лежавшему на пути движения армии Наполеона на Калугу и Тулу.
Накануне отъезда, Чернышов, верхом на коне, посетил именье Северское. Графиня Анастасия и Ольга были очень рады встрече, а затем , садясь на верховых коней, вечером проводили до окрестности села.
Прапорщик Софийского пехотного полка Александр Чернышов был выше среднего роста (2 аршина 7 1/2 вершка) стройный со светлым овальным лицом, голубыми глазами, светло-золотистыми волосами, выбивавшимися из под кивера в мундире темно-зеленого цвета и панталонах из небеленого льняного полотна.
7(19 по нов. ст.) октября прапорщик Чернышов, после лечения, отбыл в полк из Коломны.
Глава 2. Сражение за Малоярославец.
Французы вышли из Москвы 8 (20 по нов. ст.) октября 1812 года. Оставив Москву, армия Наполеона отступала на Калугу. В Калуге, не разоренной войной, где находились склады провианта и амуниции Русской армии, французы надеялись пополнить свои припасы. А затем уже свернуть на Смоленск, через Вильну и отступить из России.
Кутузов предвидел действия противника и со своей армией преградил отступление на Калугу. При подходе французов почти все жители оставили город Малоярославец, а так же братия монастыря покинула обитель.
Наперерез врагу был выслан 6-й пехотный корпус под командованием генерала Дмитрия Дохтурова; его поддерживал 1-й кавалерийский корпус генерала Егора Меллер-Закомельского.
11-го октября(23 по нов. ст.) генерал Дохтуров поспешно двинулся к Малоярославцу, приказано занять своими войсками этот важный пункт и выдвинуть четыре казачьих полка на дорогу между Малоярославцем и Боровском. Туда же немедленно был двинут и атаман Платов с казачьими полками. Вечером 11-го октября главнокомандующий двинул всю армию в двух колоннах к Спасскому на пути к Малоярославцу, где обе колонны соединились, переправились через р. Протву и к вечеру 12-го октября сосредоточились у Малоярославца; туда же отошел и авангард Милорадовича.
Ночь была темная, теплая, осенняя. Офицеры, солдаты, ополченцы, одевши заранее припасенные белье приготовили себя к предстоящим завтра ужасам и страданиям, а возможно и смерти.
Даруй нам дух сокрушений, смирения сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни… – Казанской Богородице? – шепотом спросил прапорщик Чернышов солдата, стоявшего рядом у бивака— Да, Ваше благородие. Очень она помогает, защитница наша. Я ведь с начала войны на фронте, а все она, святая заступница, бережет.– Боишься, значит? – спросил он рядового после минутного молчания.
– А как не бояться, Ваше благородие? Жизнь-то, она одна, вторую Бог нам не дает. Хоть и за Россию воюю, а все жить то хочется. А вам что ж, Александр Федорович, совсем не страшно?
– Был страх, – улыбнулся Чернышов, я его из себя выдавил. Страх, он ведь нас заставляет, обдумывать, остерегаться. Да только, если думать долго, то и врага не убьешь, и сам под пулю попадешь. Пуля и ядро скорее поражают робкого и трусливого, чем смелого и отважного. Стремительная атака и солдатская сноровка – самое надежное средство защиты. Я, перед боем, молюсь святому великомученику Георгию Победоносцу.
– Завидую я вашей храбрости, Ваше благородие, – вздохнул Ефимьев. – Вот бы мне хоть капельку вашей смелости.
– Как Вы думаете, Андрей Петрович, -обратился к командиру роты прапорщик Чернышов, – удержим ли мы завтра нашу позицию под Малоярославцем, устоим ли перед Наполеоном ?
– Обязаны устоять, – твердо отвечал в ответ поручик, – За нами дорога на Калугу. Но сражение обещает быть ожесточенным и кровопролитным и многие из нас погибнут; на все воля божья. А мне, – тяжело вздохнул поручик Соколов, – редко удавалось выходить из сражения. без ранений разной степени тяжести.
У небольшого города Малый Ярославец 12 (24 по нов. ст.) октября 1812 года разгорелась сражение между русскими войсками и Великой армией Наполеона, за обладание дорогой на Калугу, длившееся с утра до вечера. До рассвета было еще далеко, когда егеря генерала Дохтурова вступили в тихие улицы Малоярославца, но город уже был занят неприятельским авангардом, вслед за которым в недальнем уже расстоянии приближалась и вся его армия. При подходе к площади, были обстреляны французскими гренадерами. Противники сблизились в темноте и штыковой атакой выбивали из позиций, не давая французам укрепиться, генерал Дохтуров ввел в сражение свои подоспевшие полки и освободил город. Вскоре, на помощь, подошла дивизия генерала Дельзона и выбила из Малоярославца русские войска. Снова построил генерала Дохтуров свои полки и повел войска на штурм города и вновь овладел им.
В 10 часов утра на помощь дивизии Дельзона подошла дивизия генерала Брусье, и борьба разгорелась с новой силой. К Малоярославцу подтянулись резервы маршала Богарне, и Дохтурову с каждым часом становилось тяжелее, его войска истекали кровью, их выбивали из города.
Но тут подошел корпус генерала Раевского. Дохтуров и Раевский вместе повели свои полки на новый штурм. Для поддержки сражавшихся Ермолов немедленно ввел в дело Софийский пехотный полк, до того удерживаемый им в резерве. Как и Либавский полк, софийцы также получили приказ атаковать противника без выстрелов и криков «ура», действуя только холодным оружием. Благодаря этой смелой контратаке остальные сражавшиеся в городе егерские полки смогли перейти в новое наступление. В этом удачном эпизоде сражения отличились также Томский и Полоцкий пехотные полки.
Одной из тактических схем боя стало взаимодействие колонн, передвигающихся по улицам города, и цепей стрелков и охотников, ведущих бои за огороженные заборами сады и огороды, прогнать неприятеля внутрь города до большой площади, где чудесно гремела битва, летели пули, ближе к площади примешались к ним, картечи, и ядра.
Город горел, черные облака дыма закрывали небо, и в это пекло под гром барабанов и крики вливались с обеих сторон колонны войск. Овраги, разрезавшие город, мешали развернуться, войскам на улицах было тесно; противники сходились в рукопашном бою у стен монастыря, у церквей; колонны давили массой друг друга.
Разгорелся солдатский пыл.
–Братцы, бейте французов прикладом, если штык у кого слетел! –разошелся вовсю прапорщик Софийского полка Александр Чернышов. Не выдержав стремительной атаки, дрогнули французы.
– Братцы, вдогон! – закричал Чернышов, взмахивая трофейной саблей.
– Авось не умрем, – сказал младший унтер-офицер Юрьев, – бог милостив, ваше благородие!
– Да, мой друг! Он точно милостив! Страдания наши не будут продолжительны.
Телами убитых и раненых были завалены улицы, овраги и русло реки Лужи. Русские войска вновь выбивали противника из города.
Форсированным маршем прибыл с главными силами император Наполеон и бросил в сражение корпуса маршалов Даву и Нея. Объединенные силы Даву, Нея и Богарне стали отбрасывать русские войска к окраине Малоярославца.
В 4 часа дня, совершив с главными силами русской армии трудный пятидесятиверстный марш, появился фельдмаршал Кутузов и отдал приказ своим главным силам атаковать и очистить город генералу Коновницыну, который повел свою героическую дивизию в уличный бой. Рядом с ним пошел в наступление свежий корпус генерала Бороздина. Сражение разгорелось с новой силой. …
Уже кончился кровавый день, наступал вечер, а схватки не прекращались, и горящий город много раз переходил из рук в руки. К одиннадцати часам ночи французские войска овладели Малоярославцем. Передовые части армии Наполеона двинулись за город, по ним ударили русские орудия, и русские егеря погнали французов назад в предместье.
Наконец, подошел к полю сражения корпус генерала Милорадовича, и вся русская армия оказалась в сборе.
Только глубокой ночью затихло сражение и долго еще в ночной темени над городом алело громадное зарево и треск догорающих пожаров. Город представлял ценность как плацдарм на правом берегу реки Лужи. Сражение приняло ожесточенный характер за обладание плацдармом, и, следовательно, возможностью для французской армии продолжать движение на Калугу.
День 12(24 по нов. ст.) октября дорого обошелся обеим сторонам, потери каждой из которых составили около 7000 человек убитыми.
Кутузов отвел свои войска на новые позиции, отступив от города на 2,5 версты к югу на высотах вдоль пути к Калуге, прочно перекрыв дороги на Калугу. С этой позиции была под контролем соседняя дорога на Медынь, где заметили французские разъезды. Русские войска окружали город полукольцом, перекрывая из него все пути. Артиллерийские батареи были выдвинуты к городу вдоль дорог.
14(26 по нов. ст.) октября русские войска генерала Милорадовича заняли Малоярославец, маршал Даву, со своими войсками, перешел через реку Лужу и расположился в 5 верстах по дороге к Городне. В Малоярославце из 200 дворов сгорело 180. На площади оставалась одна церковь, обгоревшая до половины; в каменных стенах, нижней ее части, были пробиты неприятелем бойницы.
С этого момента стратегическая инициатива прочно перешла в руки русской армии, которая начала преследование отступающих французов, быстро превратившихся в бегущих. К декабрю 1812 года Великая армия Наполеона, которая вторглась, несколько месяцев назад в Россию, перестала существовать. Потери Наполеона в войне 1812 года составили более 400 тысяч человек.
Глава 3. По старому Смоленскому тракту.
После столкновения при Вязьме, дальнейшее движение отступающей французской армии одной колонной и за ней преследовавшей русской армией, до Красного, происходило без сражений. Солдаты и офицеры русской армии, лошади в кавалерии и артиллерии были так измучены этим непрерывным движением по сорок верст в сутки, что не могли двигаться быстрее. Погода была морозная, ясная и снежная, с дневной температурой около минус 20 градусов, а к вечеру стало выясняться и виднелось серо-лиловое звездное небо. Снег скрипел под ногами, вдоль дороги высокие снежные сугробы. Недалеко от дороги расположились у костров, отогреваясь, солдаты. Часть солдат разбрелась, по колено в снегу, в березовый лес у дороги и тотчас же послышались в лесу стук топоров, треск ломающихся сучьев ветвей; заготавливались дрова для костров на ночь. Разгорались костры кухонь, варились котелки с пищей, трещали дрова, таял снег, и солдаты сновали туда и сюда по всей занятой, притоптанной в снегу площадке вокруг костров, а также приводили в порядок амуницию и ружья.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

