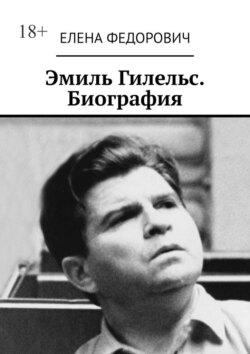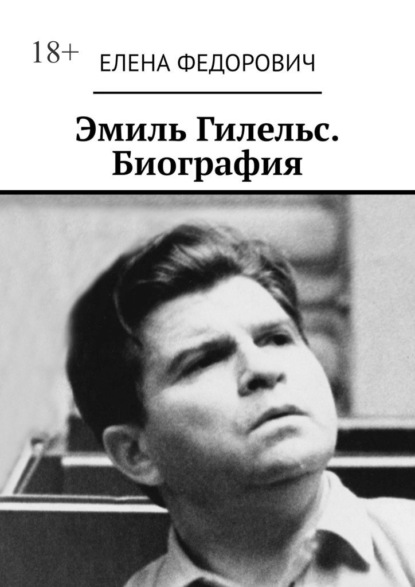© Елена Федорович, 2025
ISBN 978-5-0067-0618-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ОТ АВТОРА
Предлагаемая читателям книга освещает жизненный и творческий путь одного из величайших пианистов в истории исполнительства – Эмиля Гилельса.
Вся жизнь великого музыканта пришлась на советский период, и Гилельс для советских людей, а также старшего поколения живущих ныне россиян стал символом: высочайшего совершенства в искусстве, гордости за культуру своей страны, надежности и порядочности в жизни. Какие бы беды ни обрушивались на эту землю – Гилельс всегда был рядом, и его невероятно стройное, гармоничное искусство примиряло с жизнью, несло людям утешение и радость, придавало новые силы.
Прожив всего лишь неполные 69 лет, на протяжении 52 лет он выходил на сцену, давая по 50—100 концертов ежегодно. Общее число его концертных выступлений – более 3 000, и этому едва ли есть аналоги в истории исполнительского искусства. Он сделал более 900 записей, причем каждое его концертное выступление и каждая запись отличались высочайшим качеством. Репертуар его включал свыше 500 произведений 75 авторов.
Он гастролировал по всему миру, дав концерты в 30 странах и 211 городах мира и 127 городах Советского Союза, причем в большинстве стран и городов бывал и играл по много раз. Бесчисленное количество его концертов было передано по радио и телевидению многих стран. Его записывали лучшие звукозаписывающие фирмы мира.
Более 90% гонораров в валюте он отдавал в госбюджет СССР, заработав для страны, по самым скромным подсчетам, более ста миллионов долларов по сегодняшним ценам. В великих социальных достижениях советского периода – школах, больницах, дешевых продуктах – есть существенная доля заработанного и подаренного стране Эмилем Гилельсом, который сам всю жизнь жил предельно скромно.
Он играл чаще всего в крупнейших и известнейших залах мира: Большом зале Московской консерватории и Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Ленинградской филармонии, Карнеги-Холле и Линкольн-центре Нью-Йорка, залах Плейель и Гаво в Париже, Дворце Празднеств Страсбурга, Ройял Альберт-Холле и Фестиваль-Холле Лондона, Большом зале Берлинской филармонии, Моцартеуме в Зальцбурге, Концертгебау в Амстердаме, Киорицу-Холле в Токио и многих других.
Но он не отказывался играть и в небольших залах: в церквях Западной Европы, на благотворительных концертах в небольших культурных центрах и гостиных. В СССР он играл в Домах культуры, учебных заведениях, госпиталях, воинских частях, на военных кораблях, в открытых кузовах грузовиков и просто под открытым небом.
Гилельс был гениально одаренным человеком, который мог бы прожить благополучную жизнь, просто пользуясь щедростью природы. Но он также являл собой пример неустанного труда и колоссальной воли, и феноменальный результат этого он щедро дарил людям. Если добавить к этому его невероятную честность, смелость и доброту, то человеческие результаты такого редчайшего сплава не могут не удивлять. «Так не бывает», – имеют право засомневаться потомки.
Но Гилельс был именно таким.
О том, как все это происходило, рассказывает книга. Она представляет собой вариант «Биографии Эмиля Гилельса» из книги «Неизвестный Гилельс. Биография. Концертография» Е. Федорович, Дж. Рэйнор и Ф. Шварца, изданной в 2012 году. Но этот вариант одновременно сокращен и дополнен. Сокращению подверглись несущественные подробности, а дополнения возникли из новой информации, поступившей недавно.
Один из объектов сокращения – точные сноски на источники, которые перегружали текст 2012 года и затрудняли его восприятие читателями. Вместо них я называю автора и привожу список источников в конце книги. Те, кому понадобится указание, включающее название источника и номер страницы, могут найти все это в издании книги «Неизвестный Гилельс» 2012 года.
СЕМЬЯ
Эмиль Григорьевич Гилельс родился 19-го (по старому стилю – 6-го) октября 1916 г. в Одессе, на ее живописной окраине Молдаванке, в многодетной и бедной еврейской семье. Эти сведения, многократно повторяющиеся книгах, статьях и аннотациях к записям, нуждаются, однако, в уточнениях.
Во-первых, имя. Он был не Эмиль Григорьевич, а Самуил Герцевич. Об этом не стоило бы упоминать, если бы он не помнил этого сам. Но в 2007 г. на портале появилась его метрика, которую, следовательно, долгие годы хранили его родители, а потом всю жизнь хранил он сам, – значит, не хотел забывать. Текст метрики гласит: «Канцелярия Одесскаго Городоваго Раввина. Памятная квитанция. 6-го октября 1916 года у Виленского мещан. Герца Гиршева Гилельса и жены его Эси родился сын коему наречено имя „Самуил“».
Смена имени имела неожиданное звучание в жизни артиста – причем звучание в самом прямом смысле. Понятно, что родители, наверняка пережившие еврейские погромы и прочие притеснения только за то, что не всем нравилось, как звучат их имена, хотели просто облегчить мальчику участь. Но сочетание нового имени и подлинной фамилии образовало на редкость удачный артистический псевдоним. Трижды повторяющиеся мягкие «ль», нанизанные на короткое имя и коротко звучащую фамилию, удивительно созвучны с металлом «золотого» звука Гилельса и чеканностью отделки всего, что выходило из-под его пальцев.
Пора несколько подробнее сказать и о родителях Гилельса. Они оба уже были немолодыми людьми, когда поженились, особенно отец. «Я знал его уже в немолодом возрасте», – говорил Эмиль Григорьевич. Герц Гиршевич или, в русской традиции, Григорий Григорьевич Гилельс (1865—1940) после переезда из Виленской губернии в Одессу много лет работал бухгалтером в конторе сахарного завода Бродского. Он окончил Виленский университет и для того времени был высокообразованным человеком.
Его облик запечатлен в кадрах кинохроники, вошедших в несколько документальных фильмов: 1938 г., когда Эмиля Гилельса торжественно встречали после победы в Брюсселе, Григорий Григорьевич, уже очень пожилой (и почему-то чрезвычайно мрачный и насупленный), сидел в открытой машине рядом с Г. Г. Нейгаузом.
Несмотря на немузыкальную профессию, Г. Г. Гилельс имел редкой точности абсолютный слух, в отличие от Эсфири Самойловны Гилельс, которая музыку любила, но напевала так фальшиво, что маленький Эмиль, по его собственным словам, выбегал из комнаты. Отец Гилельса рассказывал ему о концертах, которые он посещал до революции, и гордился абсолютным слухом сына.
Характеры родителей Гилельса определенным образом проясняют непростой характер его самого. «Отец, – говорил Гилельс, – …отличался редкой добротой и мягкостью, и скромностью», а мать «…в тяжелые годы взвалила на свои плечи все тяготы. Ею держался весь дом. Независимость, гордость и невероятная воля – вот что ей было присуще. Никто не должен был знать, что мы жили в нужде. Это, несомненно, была натура сильная и оригинальная». «Эти качества, – заметил впоследствии хорошо знавший Гилельса Г. Б. Гордон, – удивительным образом воплотились и смешались – в разных пропорциях – в натуре Гилельса, образовав ту „гремучую смесь“, которая сделала его человеком, резко выделяющимся на общем фоне, не похожим ни на кого».
Здесь нужно добавить, что не похожим ни на кого его делал, прежде всего, конечно, талант, благодаря которому все качества натуры приобретали необыкновенную яркость и выпуклость. Но и сочетание родительских качеств, действительно, в этом «увеличении» часто проявляло себя неожиданно: вспомним упрямо сжатые губы, гордый взгляд, нежелание ничего для себя просить, категоричность и в словах, и в силе художественного убеждения – и одновременно с этим неожиданную тончайшую деликатность, стремление держаться в тени, скромность, поразительную чуткость к чужим страданиям и доброту – не внешне проявляющуюся, «мягкотелую», а реализующуюся в тихих, неафишируемых добрых поступках.
Эсфирь Самойловна (1877—1961) намного пережила своего мужа. Она не только застала конкурсные триумфы сына Эмиля и дочери Елизаветы, но и дожила до присуждения Эмилю Григорьевичу высших почестей – званий народного артиста СССР и лауреата Ленинской премии; покорения им Америки и Европы. Достойная награда за нелегкую жизнь этой женщины. «Образования она не получила, – вспоминал Эмиль Григорьевич, – но в конце жизни читала все, всю литературу». Учитывая присущий ему лаконизм, это высокая оценка.
Григорий Григорьевич и Эсфирь Самойловна Гилельс (по первому мужу – Динер, в девичестве Замощина) поженились, будучи вдовцами и имея детей от первых браков. «Григорий Григорьевич Гилельс… рано овдовел и, заботясь о детях, женился на вдове, у которой тоже были сын и дочь», – сообщила С. М. Хентова. Эмиль Григорьевич, очевидно, был удивлен, прочитав о своем несуществующем брате по матери, потому что годы спустя в беседах с Баренбоймом счел нужным уточнить: было «две дочери у мамы и три сына у папы». Разумеется, возникает вопрос: почему эта информация осталась неисправленной во втором издании книги Хентовой? Ответ один: между двумя изданиями книги С. М. Хентова совершила настолько неэтичный поступок, что Эмиль Григорьевич, отличавшийся крайней нравственной брезгливостью, полностью прекратил с ней общение, а ее книгу о себе книгой не считал. За это она мстила недостойными публикациями после ухода великого пианиста из жизни.
Дальше этого информация о братьях и сестрах не идет и в книге Баренбойма, и в книге Гордона. Точнее, в них говорится о том, как любили маленьких Эмиля и Лизу все старшие в семье. Но вот о судьбе сводных братьев и сестер нигде не говорилось ничего. А ведь пятеро сводных – это кроме родной сестры Елизаветы – означает, что у Гилельса должно быть море племянников, внуков… Где они? Можно предположить, конечно, что их число уменьшилось из-за страшных событий ХХ века. Но все же какую-то информацию хотелось раздобыть, и вот почему.
Вопрос о генетическом происхождении любого из ряда вон выходящего таланта всегда очень сложен, неоднозначен, но от этого не менее интересен. В ряде случаев можно проследить корни – всем известны музыкальные и вообще артистические династии; в ряде случаев – нет. То, что родители гениального пианиста не были музыкантами, а мать даже не имела заметных музыкальных способностей, само по себе ничего не означает. Так сложились звезды, игра природы.
Однако это было бы понятно, будь Эмиль у них один. Но ведь через три года у этой же пары рождается дочь Елизавета и становится не просто яркой – выдающейся скрипачкой, да в такое время и в таком окружении, когда скрипичный небосклон был переполнен звездами. Вспомним, что совсем юной Лиза Гилельс завоевала третью премию на Брюссельском конкурсе 1937 г., где первую получил Давид Ойстрах; даже ее гениальный брат, вскоре победивший на подобном же конкурсе, все-таки сделал это в 21 год, а она – в 18! «Лиза Гилельс изумительно играла!» – неожиданно восклицает в фильме «Неукротимый Гилельс» 93-летний Т. Н. Хренников; несомненно, это было одно из потрясших его на всю жизнь впечатлений. Признавая, что Лиза в дальнейшем по яркости карьеры уступала Эмилю, не станем забывать, что у нее были двое детей и муж – великий скрипач Леонид Коган. Не будь у нее таких забот – да еще в тяжелой советской действительности, – ее концертная жизнь могла сложиться немногим менее блестяще, чем у брата.
Но даже и это бы ничего, будь у них еще родные братья или сестры, хотя бы кто-то один – и не музыкант. Но ведь не было, только они двое (росшая вместе с ними пианистка Людмила Сосина вспоминала, что все знакомые в Одессе сокрушались: какие талантливые дети, почему только двое, надо хотя бы, чтоб пятеро…). Получается следующее. Родители не музыканты; ни один из их детей от предыдущих браков – не музыкант; а вот их брак почему-то дает, если можно так выразиться, стопроцентную потрясающую музыкальность детей! Но и это еще не все.
Музыканты помнят, что в ЦМШ долгое время работала скрипачка Зинаида Гилельс. Преподавала успешно: несколько ее учеников впоследствии выступали на конкурсах им. Чайковского; помню, как, читая конкурсные буклеты, где упоминалась «З. Гилельс», многие думали, что это опечатка, что «З» надо перевернуть на «Е» – Елизавета. Москвичи знали, что это не опечатка; говорили, что она в каком-то дальнем родстве с «теми самыми» Гилельсами – но вот в каком, не знал никто. До истины удалось добраться проницательной англичанке Джудит Рэйнор – и то только потому, что в 1985 г. Зинаида Гилельс с семьей эмигрировала в США и жила в Бостоне, где и умерла в 2000 г. Вот американский ее след и настигла упорная Джудит.
Выяснился редчайший фамильный казус. Старший сын Григория Григорьевича Гилельса – то есть старший сводный брат Эмиля и Лизы, которого тоже звали Григорием, женился на Розалии Динер – старшей из дочерей Эсфири Самойловны, то есть сводной сестре Эмиля и Лизы, но уже по матери. Неизвестно, случилось это до того, как вступили в брак их родители, или после – в любом случае, понятно, что между Григорием и Розалией родства не было. Так вот, их дочь Зинаида и стала скрипачкой, причем хорошей, это ясно: в ЦМШ преподавать даже среднюю никогда не возьмут. «Таким образом, – заключает эту историю Джудит Рэйнор, – Эмилю Гилельсу Зинаида Гилельс приходилась, если можно так сказать, „дважды полуплемянницей“».
Теперь посмотрим на эту историю с точки зрения генетики. Поражает последовательность, с которой природа именно в сочетании сначала Григория и Эсфири, а потом и их детей от других браков, когда те вновь соединили их кровь, высекает искру музыкального таланта! Прецеденты припомнить трудно. В Гилельсах природой заложено что-то очень необычное…
Еще один «дважды полуплемянник» Эмиля и Елизаветы Гилельс, родной брат Зинаиды – Мирон Гилельс, стал видным санитарным врачом, прошел войну, затем возглавлял санитарную службу одного из районов Москвы.
Другую дочь Эсфири Самойловны звали Феня; известно, что она особенно много возилась с маленьким Эмилем и даже помогала ему в освоении музыкальных азов, немного играя на фортепиано, хотя и непрофессионально.
Судьба остальных сводных братьев Гилельса сложилась очень по-разному, но у обоих – драматически. Сведения о Якове удалось почерпнуть из интернета, из сообщения Т. Н. Кочергиной – одной из тех подвижников, кто собирает информацию о судьбах всех, кто когда-либо был репрессирован в известные страшные годы, чтобы не затерялись имена и сам факт существования этих людей. Вот что она пишет: «Яков Григорьевич Гилельс (старший брат известного пианиста Э. Г. Гилельса), 1904 г. р., еврей, родом с Черниговщины, по профессии закройщик, был арестован 3.10.36 г. в г. Бердичев, Житомирской обл., и осужден ОСО 13.06.37 г. на 5 лет по КРД1.
Он сидел в Орловской тюрьме, а с 17.07.39 г. в Норильлаге… (дальше идут номера его дела и отделений лагеря, где он сидел. – Е. Ф.) …Освобожден 30.04.44 г. В 70-х гг. он жил в Ессентуки».
Обращают внимание несколько деталей. Во-первых, становится понятной причина крайней мрачности Григория Гилельса на торжественном чествовании Эмиля. Что мог думать этот честнейший старый человек о власти, которая отняла у него неизвестно за что одного сына, а теперь возит перед толпой другого? Как он мог верить, что это всерьез, что не отнимут и этого?
Кроме того, возникает вопрос: Эмиль Гилельс, знаменитый на всю страну человек, любимец Сталина, помогал брату или нет?
Советский человек, знающий причудливую историю своей страны, вполне может подумать, что нет. И не потому, что был плох, черств или недостаточно смел, а просто потому, что пытаться что-то сделать практически всегда оказывалось бесполезно. Были репрессированы жены у вторых лиц государства – Калинина и Молотова, первая жена Буденного; брат знаменитого «политического» художника Б. Ефимова М. Кольцов; первая жена Прокофьева (незадолго до того прославившего советскую власть возвращением в СССР) и многие другие родственники знаменитых людей. Никакое родство не спасало. Наоборот, могли посадить специально, чтобы держать знаменитость на коротком поводке. Не потому ли посадили Якова даже не в 1937-м, а еще в конце 1936-го, через несколько месяцев после первого международного лауреатства Эмиля? Впрочем, скорее всего, здесь не следует искать особый умысел – просто начинали уже брать всех без разбора, как же было «контрреволюционным организациям» обойтись без бердичевского закройщика.
Но обращает внимание дата освобождения – 1944 г. В это время еще не освобождали; тем, у кого заканчивался срок, тут же добавляли. В 1942 г. Эмиль Гилельс добился от самого Сталина, чтобы освободили его учителя Г. Г. Нейгауза. Можно ли предположить, что он не участвовал в судьбе брата?
Возможно, за брата он самого Сталина не просил – об этом нет совсем никаких сведений, да и похоже это на Гилельса – самые высокие знакомства поднимать не для родственника, а для выдающегося деятеля культуры. Но вот хлопоты, в конечном счете облегчившие судьбу брата, были наверняка.
Разумеется, все, что касается участия Эмиля Григорьевича в судьбе Якова, – это только догадки. Но тем, кто читал книги Л. А. Баренбойма и Г. Б. Гордона и составил представление о характере Гилельса, совершенно ясно, что в данном случае следов не могло быть вообще никаких. Об этом, этих хлопотах Гилельс не сказал бы никому: даже матери, жене, сестре – совсем никому, и чтобы не разглашать свои добрые дела, и чтобы родных не подвергать даже косвенной опасности.
И так же почти никому не рассказывал Гилельс о судьбе третьего брата. Точнее, об этом знали, кроме сестры Елизаветы, лишь жена Гилельса Фаризет и дочь Елена, бывавшие вместе с ним в США, где проживает еще одна ветвь семьи Гилельсов. Поскольку женщины также отличались сдержанностью, мы имели шансы не узнать об этом никогда, если бы не Джудит Рэйнор. Привожу ее текст полностью.
«Несколько лет назад я познакомилась с одним американцем, который поддерживал отношения с американскими родственниками Гилельса. Он дал мне электронный адрес Деборы Гилельс, которая живет в Лос-Анжелесе. Я написала ей, и вот что она мне ответила.
Григорий Гилельс, отец Эмиля, был женат дважды. Эмиль и Лиза – дети от второго брака, а от первой жены у Григория было несколько сыновей. Одного из них звали Абрам, позднее он называл себя Александром. Абрам-Александр родился примерно в 1898 г.; в 1913 г. Григорий Гилельс отправил его в Америку, чтобы он там устроился и поддерживал связь с семьей2. Но тут наступила Первая мировая война, русская революция, гражданская война, потом Вторая мировая война… Первое время Александр писал домой, но потом контакты прервались. Александр погиб в автокатастрофе в 1952 г., незадолго до первого приезда в США Эмиля Гилельса, и ему никогда даже не приходило в голову, что есть какая-то связь между двумя детьми от второго брака его отца и знаменитыми советскими музыкантами.
Александр жил в Сиракьюзе, возле Нью-Йорка, и был женат дважды. От первого брака у него были два сына, и четверо или даже более детей от второй жены, которая погибла вместе с ним в той страшной автокатастрофе.
Все дети Алекса имели собственных детей, и семейство Гилельсов довольно широко распространилось по Северной Америке: следующие поколения сейчас живут в Нью-Йорке, Техасе, Флориде, Калифорнии, Бостоне, Торонто (Канада) … Даже при жизни Эмиля Гилельса в Америке жило уже много членов этой семьи.
Однако американские Гилельсы не интересовались классической музыкой, и шансы на их встречу с Эмилем были малы.
Старшего сына Александра звали Виктор. Однажды он случайно увидел в журнале фотографию советского пианиста Эмиля Гилельса – это было в 1955 г., когда первые гастроли Гилельса в США сопровождались шумным успехом и рекламой. Виктор заметил, что этот Эмиль Гилельс очень похож на его отца Александра (которого к этому времени уже не было в живых). Он решил попытаться встретиться с Эмилем, хотя понимал, что это будет нелегко. Виктор написал Солу Юроку и попросил его передать Гилельсу письмо, в котором он подробно описал историю своей семьи. Когда Юрок передал это письмо Эмилю, то первое, что ответил Гилельс, – что это ошибка и что у него нет никаких родственников в Америке. Однако позднее Эмиль признался Виктору, что письмо он прочитал, но только после того, как комнату покинул сопровождавший его сотрудник КГБ. В это время они буквально окружали Эмиля, и контакты с Виктором были невозможны.
Несколько лет спустя Эмиль Гилельс снова играл в Нью-Йорке (видимо, это был 1958 г.). Виктор и одна из его сестер вновь сделали попытку связаться с ним, и на этот раз удачно. С помощью организатора концерта они прошли за кулисы и дали Эмилю фотографию, на которой были изображены Александр и они – его дети. Когда Эмиль Гилельс только взглянул на эту фотографию, глаза его увлажнились: он сразу понял, что это его родственники. Ему очень захотелось поближе познакомиться с ними, и Виктор и его сестры тоже очень заинтересовались своими родственниками из СССР!
Однако такие контакты в то время были крайне затруднены, а для Эмиля просто опасны, и ему приходилось все держать в секрете. Он встречался с ними, когда приезжал в Америку, а также звонил им из разных стран, когда выезжал за границу. Американские Гилельсы почти не говорили по-русски, но английский Эмиля был вполне хорош, а Лиза Гилельс, когда приезжала в Америку с Леонидом Коганом, говорила со своими родственниками на идиш.
Дебора Гилельс, которая поведала мне все это, – дочь Виктора, который, в свою очередь, приходился Эмилю племянником. Я не уверена, что Виктор сейчас жив. Дебора говорила, что Виктор и Эмиль были очень похожи; причем Виктор, блондин от природы, после встречи с Эмилем стал красить волосы в рыжий цвет, чтобы походить на него еще больше! Она рассказывала, что Виктор говорил об Эмиле: «Это удивительный, чудесный человек, и чем больше я его узнаю, тем сильнее люблю».
Виктор был только на семь лет моложе Эмиля, и они выглядели, как братья. Дебора писала: «Эмиль общался с Виктором довольно часто и звонил ему из разных стран – однажды даже из Австралии (?)3 … Эмиль, несомненно, подвергал себя большому риску, потому что в КГБ все равно обо всем знали… Однажды в Нью-Йорке играла Елена Гилельс. Моя сестра пришла к ней за кулисы и слышала, как агент КГБ, стоявший рядом с Еленой и Эмилем, говорил Лене: „Ваш дядя сидит внизу справа“».
Дебора даже за собой однажды почувствовала слежку. А один раз жена Эмиля встретила Виктора в продуктовом магазине неподалеку от Карнеги-Холла, но сделала вид, что его не узнала, – ее сопровождал сотрудник КГБ.
Одна из дочерей Александра живет в Торонто, ее зовут Джорджиана Гилельс-Берк. Дети Леонида Когана и Лизы Гилельс Павел и Нина часто видятся с канадскими Гилельсами – Нина вышла замуж за жителя Торонто. Канадские Гилельсы общаются со своими русскими кузенами, но я не уверена, что среди них есть Кирилл». (Конец текста Дж. Рэйнор.)
Таким образом, мы видим, что Гилельс вовсе не имел столь сплошь благополучной биографии, которую ему усиленно приписывают. Дескать, семья простая, никаких родственников за границей, как у других, полная лояльность режиму… Насчет простой семьи и режима – несколько позднее. А вот родственники были, да не где-нибудь, а в США. Д. Рэйнор указывает, что это было опасно для Гилельса, но думается, только наши соотечественники могут в полной мере понять, насколько опасно, чем это было чревато. Власти терпели – очень нужен был Гилельс. Но нервы ему портили, безо всякого сомнения, изрядно.
Теперь вернемся к семье – насколько она была бедной и, главное, «простой». Бедность в советское время – не показатель: в послереволюционные годы обнищали все. Да, нужда сопровождала эту семью: упоминается о ней и у Хентовой, и – уже приводившимися словами самого Гилельса – у Баренбойма, и у Гордона.
Но когда эта нужда в столь остром виде возникла? Вот слова самого Гилельса: «Да, годы были трудные, очень трудные. В малолетстве я этого не ощущал. Быть может, сохранялось еще какое-то материальное благополучие (курсив мой. – Е. Ф.). Потом стрелка начала падать…».
Нужно оценить сдержанность Эмиля Григорьевича – не мог же он в советское время прямо сказать в интервью для книги, что относительное материальное благополучие в их семье было до революции. Скромное, безусловно, но далекое от нищеты, как охарактеризовала дальнейшее Елизавета. А «стрелка падать» начала после малолетства Эмиля, то есть как раз когда окончательно установился новый и «самый счастливый» советский строй. Именно при этом строе умные люди и честные труженики, которыми были родители Гилельса, не в состоянии оказались обеспечить детей, делая это из последних сил. Ссылки на многодетность ничего не поясняют: их старшие дети были уже взрослыми и самостоятельными; другое дело, что они так же бедствовали по тем же причинам.
Интересно, как по-разному обыгрывали этот факт различные «заинтересованные лица». Идеологически ангажированные биографы (к коим в период создания книги о Гилельсе, безусловно, принадлежала и С. Хентова) исходили из аксиомы: бедность семьи Гилельсов – как и всех прочих – это, разумеется, тяжелое наследие царского режима! А вот советская власть из него сделала знаменитого музыканта, да разве бы при царе выходец из бедной семьи мог рассчитывать… И т. д., и т. п. В этой версии бедность выглядела достоинством.
В то же время в среде художественной интеллигенции была запущена версия о некой духовной ограниченности Гилельса (одним из ее авторов был Г. Г. Нейгауз). Причем поскольку в содержании его искусства этого уловить было никак нельзя, то акцентировали вот это самое происхождение, смещая при этом акцент с бедности на простоту, т. е. якобы невежественность семьи Гилельсов. Вместо материальных трудностей, которых в послереволюционное время не избежал никто и которые у российской интеллигенции вообще никогда пороком не считались, были изобретены якобы отсутствие в семье Гилельсов музыкальных, вообще художественных, корней, недостаток культуры… Значительно позднее, когда это стало идеологически безопасно – и когда уже ушел из жизни Эмиль Григорьевич, – к этой версии шумно присоединилась С. Хентова: в своей печально известной статье4 она прямо заявляет, что в Гилельсе навсегда осталась ограниченность, идущая от его бедной семьи.
От этой версии камня на камне не оставил Г. Б. Гордон. Справедливо замечая, что сам факт немузыкальности семьи ничего не означает, и известны случаи, когда в действительно бедных и малокультурных семьях вырастали гениальные музыканты, он указывает, что в данном-то случае недостаток культуры семьи – это неправда. Он приводит французское интервью Гилельса, в котором и сам пианист чувствовал себя раскованнее, чем при общении с советскими журналистами, и интервьюер не имел специальной задачи показать, что музыкант вышел из безупречной по советским меркам – то есть обязательно бедной и малокультурной – семьи. В этом интервью Гилельс рассказывает: «…Опера, концерты, камерная музыка – мы жили музыкой… Мои родители часто брали меня с собой на концерт, когда я был совсем еще маленьким… Не будучи профессионалами, мои родители и вся моя семья были музыкантами. Все играли на фортепиано, все горели одной страстью: мои родные, братья, сестры, двоюродные сестры… У нас было много музыкальных записей, партитуры. Мы купались в музыкальной атмосфере».
Это разительно непохоже на описание Хентовой, которая в своей книге уверяла, что семья Гилельсов была занята только проблемами выживания, и даже музыкальные способности мальчика были замечены совершенно случайно – соседи услышали, как он подбирает по слуху песенки. А так бы ни за что не заметили. Правда, для того чтобы подбирать песенки, надо, чтобы дома находился инструмент, и С. Хентова вскользь упоминает, что в доме был старенький «Шредер». Это уже удивляет: такая бедная и лишенная всего духовного семья, сплошная борьба с нуждой – и вдруг рояль. Как же его такие ограниченные люди на дрова не пустили?
Книга Хентовой пестрит подобными «перлами», как и ее позднейшие письменные высказывания о Гилельсе. Но плохо то, что именно эта версия прошла почти через всю литературу о нем: «семейный» мотив есть у Д. А. Рабиновича, прослеживается он и у Г. Г. Нейгауза. Л. А. Баренбойм мягко дал понять, что это не так, – недоброжелатели сделали вид, что не обратили внимания (статья Хентовой «Эмиль Гилельс знакомый и незнакомый» вышла уже после книги Баренбойма). В книге Гордона «семейная версия», как и многие другие лживые версии вокруг Гилельса, была разбита прямо, без обиняков – так на эту книгу буквально накинулись участники интернет-форумов, а впоследствии и некоторые музыканты в печати: как это автор посмел, да зачем вообще это нужно…
Поэтому необходимо еще раз прямо сказать, что версия об ограниченности семьи Гилельсов – это неправда. О Гилельсе просто написали ложь – отчасти в силу тогдашних идеологических условий. Семья Гилельса до революции бедной не была и отличалась высокой культурой с явной тягой к музыке. Как мы уже проследили, в этой семье буквально бродили искры таланта, вспыхнувшие ярким пламенем в Эмиле и Елизавете, и по сей день продолжающиеся в их детях и внуках. Но даже те члены семьи, которые не стали музыкантами, любили музыку и тянулись к ней: в их доме были партитуры, родители не только сами ходили на концерты и в оперу, но и совсем маленьких детей к этому приобщали.
А то, что это происходило в не просто трудные, но чудовищно трудные годы, показывает лишь, как сильна была у них эта тяга, как прочен был культурный слой.
Приведу описание К. Г. Паустовского – надо заметить, писателя, вполне лояльного советской власти, – которое интересно тем, что рисует облик Одессы как раз в те годы, когда появились на свет Эмиль и Елизавета:
«Белые оставили после себя опустошенный город (речь идет о феврале 1920 года, когда Эмилю было три года, а Лиза недавно родилась. – Е. Ф.). …Магазины закрылись. Только кошки, шатаясь от голода, перебегали через площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть речи. Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины».
В этих условиях рождение двоих детей, да еще у не очень молодых уже людей, можно расценивать как бедствие; сверхзадача, казалось бы, – выжить, уберечь малышей от голодной смерти, холода и смертельных болезней – и только. А Гилельсы их на концерты водят, партитуры дома разыгрывают…