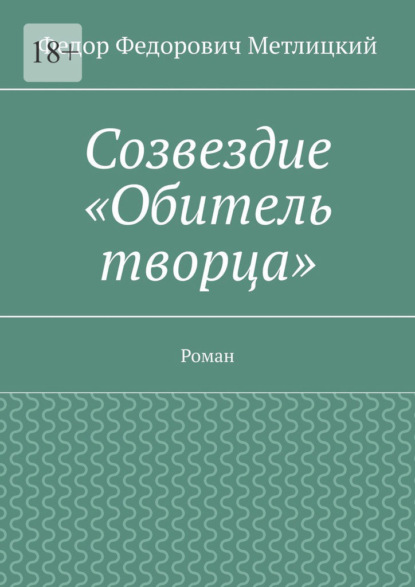- -
- 100%
- +
Как водится, охотно откликнулись ищущие, куда бы приткнуться:
притихшие люди из партий, сошедших с избирательной дистанции из-за малого рейтинга; видные отставные политики и общественные деятели, ищущие новых путей наверх; средние и мелкие чины министерств, снисходительно глядящие на общественность с видом, что главное дело вершится у них, в государственной системе, а мы – просители;
члены нашей Деловой ассоциации, настороженные предприниматели, затаившие свое и ожидающие выгод;
знакомые худые интеллигенты-изобретатели новинок в своих потрепанных замшевых куртках и шарфах;
журналисты, ищущие «жареные» факты;
почему-то много представителей охранной фирмы «Правопорядок», узнаваемых по нахальному выражению лиц.
Все были возбуждены невероятной возможностью самим решать судьбы страны.
Я стал исполнительным директором, с помощниками и секретаршей, понимая, что среди этих авторитетных дядек, знающих о своей значимости, я никто, и должен вкалывать, а они пользоваться результатами. Совет созывался для решения главных вопросов. Обычно, он решал что-то сделать – созвать конференцию, желательно в курортном месте, организовать экспедицию для исследований, общественного контроля и т. д., и все расходились с сознанием вершителей важных дел.
Надо было иметь крепкие локти, чтобы выжить, и я пытался втиснуться на общее поле, на котором Система вольготно расположилась целиком.
Я уговорил стать куратором, почетным председателем Совета, представителя руководства Системы Сенету. Это сразу повысило престиж Гражданского союза. Правда, он редко появлялся у нас. Нетерпеливо выслушивал мои отчеты по телефону, но у него был чудесный нюх на деньги – всегда был тут как тут, когда они появлялись, и просил (что-то удерживало его от требований) выписать командировочные на очередную конференцию – то на озере Байкал, то в Дагомысе.
Сенета восхищал меня вкусом к жизни. Умел жить красиво, во всех поездках – а ездил он только в самые лучшие для отдыха и развлечений места за границей и у нас, умел заводить там знакомства с местной властью и хозяевами, чтобы возвращаться туда, даже пытался приспособить наш Союз для увеселения себя. Я так не умел, что-то заскорузлое во мне, от провинциального воспитания в постоянных нехватках, мешало, и я завидовал ему. Мой постоянно занятый дух «под собой не чуял страны», был вне тела, покрытого какой-то одеждой, оставлявшей только смутное ощущение. Впрочем, о моем теле заботилась моя подруга.
Наверняка у него были свои глобальные замыслы в отношении нашей организации, и участие в конференциях и связи его и других членов играли свою роль, но на работе организации это не отражалось, их планы как-то испарялись перед реальностью, мы были забиты реальными проблемами, а они не знали, что нам это стоило.
Я знал его еще по армии, куда хотел попасть, чтобы укрепить свой дух в жерновах служения государству. Вспомнил спертый воздух казармы. Командовал нами, новичками, старшина-«срочник» Сенета. В отличие от других он не мытарил новобранцев, а снисходительно опекал, обаятельно оскаливая зубы в открытой улыбке.
Тогда я, маменькин сынок, чувствовал себя попавшим в зиндан, где не было ни одной степени свободы. И притягательная улыбка старшины, снисходительная опека казались отцовской нежностью к сыну. Хотя то и дело его грубые розыгрыши, на грани издевательства, больно ранили, хотелось покорностью заслужить его похвалу и защиту. Что-то вроде стокгольмского синдрома.
Он не выгораживал нас, если мы невольно не успевали войти в военный распорядок, и с усмешкой провожал на гауптвахту.
– Ничего, салаги, скажете спасибо. Добро должно быть с кулаками.
Я любил старшину Сенету, наверно, за то, что по природе он был победителем. Как будто знал, что делать, с рождения. Из тех, кто все берет на себя, способен думать за всех. Гимнастерка и пилотка были на нем как влитые, носил их лихо-небрежно, словно подчеркивал небрежение мелочами.
К нему тянулись женщины, видя самца, способного решать за них. Этой тяги женщин к грубым и сильным я тогда не мог понять. Это же реликт первобытных обществ, когда мужчина-горилла мог защитить самку. В эпоху толерантости это уже устарело. Мне казалось, что привлекать в мужчине должны иные качества – ум, талант и чувство прекрасного, как у меня. Ведь им надо продлевать род, а за грубостью сейчас нет будущего. Красивая жена полкового командира-пьяницы бросалась к нему на шею, и была готова уйти с ним на край света. Он был небрежен и с ней.
После института мы с Сенетой работали в Системе. Он со своей уверенностью сразу пошел на повышение, а я оставался безымянным клерком.
Но мы вместе проводили время в свободолюбивых компаниях, он и там верховодил. Вокруг него, стабильного мачо, всегда кружились вольные девы, для кого «нет закона», но легко теряли своенравие, покоряясь покровительствующей волосатой руке героя. Ко мне же льнули некрасивые. Им надо было как-то устраиваться, и поскольку я жалел их, не любимых, то они подбирали меня.
Конечно, я мечтал о чем-то ином. О чем? Я провинциал, добиравшийся до неких высот культуры самостоятельно, без окружения великих, могущих быть Учителями. Впитывал споры по телевизору: слушал одного политолога и думал: как это верно! Потом слушал другого, с противоположной позицией, и поражался: а ведь верно!
Сенета пошел по линии оборонной промышленности, пропадал на секретных заводах где-то на востоке, о чем никогда не говорил. Считал себя «рабочей аристократией», делающей дело, и был снисходителен ко мне, ушедшему в зыбкое непроизводительное существование общественной организации, оставленной на саму себя.
Он снисходительно усмехался над моей гамлетовщиной. И презирал моих сторонников, желающих перемен, которые не умели утвердиться и быть успешными.
– Люди не видят других смыслов, кроме выживания и успеха, всегда оправдывают себя, и потому мстительно завистливы. Дело в том, что не умеют работать. Модернизационные проекты невозможны, пока не будет создано самостоятельное гражданское общество. А этого, увы, никогда не будет.
– Люди не завистливы, возражал я. – Они хотят справедливости. Воры должны сидеть в тюрьме.
– Ты же на самом деле не любишь людей, – поучал он. – Выдумал сострадание к ним, и одновременно зло вышучиваешь их. Любишь только идею о всеобщей любви. Того, чего в тебе нет – это меня.
Когда я смотрел американские фильмы про мужественных и жестоких мачо, побеждающих зло кулаками и колюще-стреляющими предметами, то завидовал им. Что такое их уверенность в себе? Загадка! Наверно, они не видели в кажущемся им зле добра. В четкости взгляда есть упрощение.
Под его обаянием я начинал сомневаться в себе, и хотел быть похожим на него. Он такой же уверенный в себе, как был в армии, только в красном одеянии, похожем на сутану. По нему было видно, что он блаженно обитает между финансовыми потоками. Иногда он вызывал меня поговорить о стратегии…
Второе лицо Совета – доктор-химик Черненко, с плотным телом, всегда согнутый, словно не хотел подпускать к себе, являлся к нам в середине дня, что-то писал у себя в кабинете, иногда поручал нам какие-то дела.
Мы узнали, что в его доме не все ладно, отношения в семье испортились, когда дочь связалась с наркоманом, и он, якобы, проклял ее. Видимо, в его душе все выгорело, до ледяного равнодушия. Единственным увлечением Черненко была наука. Там он нашел убежище – семью, и радости. Но во время перестройки его институт ликвидировали. Он знал все юридические тонкости (опыт многих тяжб и исков на предыдущих должностях, о чем мы не догадывались) Казалось, он мстит за свою неудавшуюся жизнь.
Имея свою фирму и опыт менеджера, он принял активное участие в создании Гражданского союза.
С маленькой командой я принимался за работу: писал программы, добывал деньги, в основном у министерств, для выполнения плана сбрасывающих средства, запланированные статьей по нашему профилю, обзванивал всех, кто был нужен, писал и отправлял кучу писем, ежедневно разговаривал с участниками, организовывал поездки. Мы были неизвестные солдаты Дела, безымянный пласт делателей истории. Представляли же историю члены Совета (пахать им было подано) на конференциях в каком-нибудь курортном месте.
Зачем мне все это – тащить ношу, которую не ценят эти гедонисты, извлекающие из всего радость существования? Меня власть не возбуждала, наверное, не умел выйти из своей скромной ниши. Не умею жить, не то что делать карьеру. Я всеяден, принимаю все как есть. Не вовлекаюсь в тусовки, политическую борьбу. Хочу развивать дело, добиваться сносного результата.
Моя подруга, – смутно вспомнил я, – боялась, что я лезу куда-то не туда. Что это, женская черта оберегания потенциального потомства от непредсказуемых обрушений? Или коренной страх человеческого существа перед опасными изменениями?
Муса монотонно зудел
– Одни – управляют, не зная цели, другие хотят революции на крови, а наш пациент хочет быть честным, но лжет сам себе.
Он отвернулся. – Обычное устройство цивилизаций. Ничего интересного мы не найдем
В чем-то он прав, – омрачился я. Иса был озадачен.
– Их история не задает высшей цели. Не могут подняться выше своих страстей и эмоций.
Я усмехнулся.
– У нас вообще нет цели
Он задумался.
– Когда-то, как видно из их источников, они боялись злых духов и космических сил, верили в Спасителя, но потеряли веру, стали рабами разума, у единой всемогущей истины. Теперь же у них столько истин, сколько мыслящих существ. Их дух обмелел, не стало смыслов.
– Но мы ищем смыслы, – исправил я свой ляп. Оправдывался, хотя они разговаривали между собой: – Народ изверился в справедливости на Земле. Перестал верить во что-либо. Даже революции ничего не могут сделать.
Иса перешел со своей певучей речи на мой язык
– И ничего не меняется?
– Что толку? – забывшись, доверился я им. – Новые власти сначала реформируют, потом яростно защищают завоеванное, и скатываются в привычную коррупцию.
Муса задавал наивные вопросы
– Значит, тебе не нравится то, что происходит на твоей планете? Что же тогда у вас происходит?
– Мы не знаем, куда идем. А кто знает, того не слушают.
– История вас ничему не учит?
– Об этом поговорите с кем-нибудь другим
От их стороннего взгляда мне стало больно. Что они знают о наших испытаниях (правда, каких – не помнил)? У них задача иная, чем сострадание. Вспомнил, вернее, ощутил судьбы тех далеких людей, и стало жалко их.
– Зачем это вам?
Догадывался, что в их исследованиях – какая-то угроза. Иса пояснил
– Мы много знаем об устройстве вашего сообщества, его поведении – равнодействующей ваших сознаний. О механической регламентации отношений с помощью правил и законов. И невысокого мнения, как ты понял. Но хотим проникнуть в индивидуальное сознание живого землянина. Может, изнутри вы еще нам пригодны. Ты не первое живое существо из вашей планеты.
Обращаясь ко мне, они переходили на мой язык и, наверно, в переводе понимание огрублялось. Или не вкладывают всего в свою речь-перевод, говорят со мной краткими, упрощенными репликами-знаками их глубинных смыслов. Боюсь, излагаю их мысли примитивно.
Они вызывали меня на откровения, вставляли свои замечания, словно, не уверенные в чем-то. Мало им бесцеремонного вторжения в мое сознание! Меня поразило, как это они выхватывают непостижимо точные подробности нашей жизни, даже сам тревожный воздух, которым мы дышим.
– А вам заранее все ясно? – поддел я их.
– С рождения, – сухо сказал Муса.
Нефертити удивлялась
– Странная неизвестная нам болезнь – неспособность делать усилия, чтобы найти выход. Вижу, существа этой планеты не обладают творческой энергией. У них какая-то другая энергия.
– Наша энергия – в постоянном творческом усилии! – протестовал я.
Может быть, в иотянах действительно играет энергия, как в первый день творенья. Во всяком случае, их лучащаяся аура несоизмерима с моей. Но эта энергия казалась мне искусственной, наверно, потому, что смотрел из нашей усталости, и даже коренной перелом будет вялым подъемом и уже не поможет преодолеть надорванности.
Известно, что происходит с людьми, захваченными инопланетянами. Сейчас на волоске – моя, единственная жизнь! Для чего они сканируют мое сознание? Чтобы потом вскрыть мозги, что-то в них вынуть, вытянуть какой-нибудь нерв – невыносимо! И дай бог, если отпустят искалеченным. Я итак искалечен кем-то на земле. Лежа на лабораторном столе, я пытался выведать, что они со мной хотят сделать, и бунтовал.
– И у вас применяют насилие?
– Нет. Мы вынуждены, – кротко отвечал Иса
– Только при угрозе планете, – сухо сказал Муса.
– И морды не бьют?
Иса засмеялся
– У нас нет таких конфликтов. Но ты нам нужен.
Я умолял: – Отпустите меня! Почему я? Нас миллиарды
– Тебя выбрали недаром, – сказал Иса. – Мы узнали, что ты пытался изменить психологию земных существ.
– О чем вы?
Я был пуст, ничего не помнил. Только лежала тень на сердце: кто-то отнял все – мое дело, дорогих людей, саму жизнь. Неужели амнезия? Или это обычное состояние землянина, живущего не принимая во внимание историю.
Они удивились.
– Кроме того, ты честен, и в тебе есть сострадание. Это значит, что ты лучше представляешь ваше племя.
Причем тут честность и сострадание?
– Нет, бесчувствен к другим. Не доверяю бомжам, не подаю им, отвожу глаза. Правда, больно за старушку, укравшую в супермаркете три сникерса, которая была поймана и умерла от позора.
Старушка со сникерсами прошла мимо них.
– Сострадание – не только во внешних признаках
– Я лентяй, каких мало, валяюсь на диване и обдумываю то, что никогда не осмыслю. Первый лжец на Земле, потому что не понимаю себя! Кот в мешке. Страшно далек от народа! Ничему не верю, равнодушен к окружающему. Не могу наслаждаться радостями жизни, которые открываются любящим. К тому же, не имею идей, всеяден. Хвала тебе, чума!
Они засмеялись.
– Пушкин?
Я изумился. Не сплю ли?
– Не удивляйся, – успокоил Иса. – Такие продвинутые, из других низших планет, собраны в наших библиотеках. Творческие существа, прозревающие наши секреты. Хотя и не осмысленно, подсознанием.
Я и моя среда не давали типической характеристики землян, они принимали мое за типическое. Получалась какая-то маргинальность Земли.
– Неужели по моим обрывкам можете составить целое? Исследуйте всех землян, если на это способны! Они лучше, чем я.
Муса не понимал.
– Ты же землянин
– У нас люди разные. Есть борцы за мир во всем мире (даже ястребы – за мир), патриоты, либералы, есть вкалывающие «молчуны», и обращенные из юдоли Земли в молитве к небу, и живущие для себя, и бомжи. Я – не помню, кто. Отпустите меня! Я маргинал! Не имею секретов. Не воспитан в среде интеллигентов. Не был в горячих точках. Знаете ли вы, что такое жадность? Нет, вы не знаете, что такое жадность. Я жаден с детства, ибо не доедал.
– Да, их жадность неизлечима, – сказал все знающий Муса. – Их мерки выработаны нищенством молодости, и повышение цен на товары – у вас, ведь, их меняют на «бабло», как ты говоришь? – повергают их в ужас. Мысль, что намного переплатил, лишает сна. Это им невозможно перенести.
Его слова меня покоробили.
– Наш народ не жаден, не пассивен. Жизнь земных существ основана на жестоком выборе и необходимости. Общественная потребность определяет мораль, связывает личность.
– Вот-вот, такие нам и не нужны, – поддразнила Нефертити. Я отчаянно вскричал:
– В моем народе – трепет и испуг живой жизни! Временной, могущей погибнуть. Я плачу, как он печется и убивается по детям.
– Значит, ты знаешь, что ничем не отличаешься от других?
– Наша планета необъятна.
Они глянули в небо, не нашли моей планеты и улыбнулись.
– Тогда тебя не должно быть совсем.
Нефертити смягчила:
– В мельчайшей частице всегда есть бесконечно близкое, как вселенная.
Мне было не до шуток.
– А что потом?
– Если психика землянина слишком примитивна, то он нам не нужен. От тебя будет зависеть, что с тобой делать. Может, и правда, что ты маргинал? Тогда нам не понадобишься. Не бойся, это будет не больно.
Они улыбнулись. Я испугался, не перегнул ли палку.
– Вообще-то нас, маргиналов, сплошь по всей земле. И те, что на свету рампы, тоже маргиналы, только примелькались в телевизоре и от узнавания толпами ощутили в себе величие.
Они снисходительно молчали, словно знали обо мне и Земле намного больше, чем я думал.
Я был согласен. Что здесь подумают о нашей уникальной цивилизации по моим воспоминаниям? По серым струям, в которых лениво плыла моя жизнь. Где типичные представители? Не вспомнил исторических событий, героических сражений, героев, бескорыстных энтузиастов комсомольских времен, отдававших себя общему делу. Хотя про героев вряд ли поймут: зачем допускать конфликты, убийства, чтобы возникали герои?
Но, возможно, их больше интересовала психология, сама по себе, загадочного инопланетного существа?
Я старался быть спокойным. Вообще-то вмиг очутиться в другом месте, даже не на Земле, а на неведомой планете, было невероятно. Я любил командировки, но эта превосходила все. За это можно отдать жизнь.
Они явно хотят что-то от землян. То, что не могу дать. Это меня пугало. Я лихорадочно рылся в пустой памяти, чтобы убедить их. В чем?
Муса что-то сказал Исе. Тот помрачнел. Явно нехорошее на мой счет.
Я пытался что-то доказать. Мне хотелось изменить мнение о землянах.
Да, наверно, сознание мое, как у всех, исторически перелито в сознание некоей Общности, в которой существую, ибо ужас смерти отбивает охоту стоять в стороне гордым одиночкой, кого немедленно может унести в пасть безжалостной природы. Поэтому представления и убеждения Общности всегда сакральны, хотя сама Общность может погубить своих членов.
Неужели я не отличаюсь от основного слоя населения?
И снова, после укола Нефертити, в мозгу вспыхнуло окно воспоминаний, огненной медузой света.
3
Вижу себя в моем кабинете, там отрадно расставленные шкафы с систематизированными мной книгами, журналами на футуристические темы, по разным странам и в целом по планете. Намоленная временем обстановка, чувство достигнутого уюта странно вызывали скуку. Словно знал, что закончу жизнь в этих, таких знакомых стенах. Думал, что делать с этой оравой участников Гражданского союза? Наверно, по долгу службы пытаюсь оживить нашу неповоротливую махину, чувствуя себя проповедником в диком племени не верящих ни во что.
Мой друг Олег, член Совета. говорил, заставая меня над этим занятием:
– Корпишь над программой не знаю-чего? – И по обыкновению болтал: – Человек – кратковременный костер, состоящий из миллиардов костерков в митохондриях, которые умирая и возрождаясь, обеспечивают горение всего костра. Но что его питает, чтобы не погас? Всемирное тяготение? Соборность? Это от тебя не зависит.
Я уклонялся:
– Не хочется все оставлять так, недоделанным.
При Союзе мы создали ассоциацию «Футурополис», систему добровольного партнерства и кооперации, предприятий, научно-исследовательских институтов, лабораторий, образовательных структур, даже сект уфологов, и отдельных людей. И ассоциацию производителей чистой продукции и чистых территорий. Наша задача была – устранить зияния, пустоты заброшенности в промежутках между ними. Они, до сих пор нацеленные куда-то в воздух, здесь могли применить свои силы напрямую на твердой почве, вдруг оказываясь нужными друг другу, встретившись в одной охватывающей всех программе. Каждый независим и в то же время необходим.
Это была концепция, которая должна перевернуть экономику с головы на ноги. Ничего революционного. Такое было еще в легендарное время единения людей и животных, описанное в Библии. Новый, альтернативный проект социальной модернизации – примирения всех разнородных интересов бунтующих сторон в иных условиях отношений.
Захожу в комнату сотрудников. В нашем общественном объединении большая текучка кадров из-за небольшой зарплаты, новый штат исполкома набран случайно, из Фонда занятости, по «резюме» из интернета, по рекомендации знакомых. Это те, без достаточной или востребованной квалификации, кому некуда идти из-за отсутствия социальных лифтов.
Вот молодые специалисты, смотрят как ученики, ясные от неведения драматизма всего, что происходит на земле, и потому обращенные только в радужную сторону нашего дела. Они разговаривают с клиентами по телефону самоуверенно, не сообщая мне – о чем? Я в панике: что они там ляпают?
Мои верные соратники-ветераны сидят, развалившись, как свои. Мой немногословный зам Печкин, с широким красным лицом пьющего и маленькими усиками, держит себя самостоятельно, по своей природе не тянется к познанию, не любит учиться, и судит обо всем независимо, ибо уверен в окончательном знании всего, что в его «местечковом» кругозоре. Он уравновешен, мудро живет где-то в безопасной середине, не допускающей риска и гибели, — чтобы выжить в любых условиях, и вывести семью в тихую гавань. На него можно положиться.
Наш бухгалтер Ерохин, которого мы называем «Старший экономист» (в отличие от просто экономиста — Маркса), с острой бородкой и худенькой щуплой фигуркой, всегда осторожен. Он восторженный мистик, и неисправимый оптимист, поскольку глядит в свою судьбу бессмертием народа, не могущего погибнуть. Не умел видеть трагедию мира. И любил советовать, как лучше сделать ту или иную работу. «А сам не мог бы?» – спрашивал я. Он увертывался: «Этого я не умею». «Потому что все сваливаешь на других. Так никогда не научишься».
Он утешал:
– Все обойдется. Все сбудется.
Они со мной с самого начала, только с ними я мог освободиться от обычной опаски ляпнуть не то, они прощали мои «закидоны».
– В холодное небо бездомно смотрел, – цитирую я. – Эпоха войны в нем темнела жестоко. Я знал – надо жить, для неведомых дел, теплушкой продленья несомый к востоку.
Они не поняли.
– Что с тобой? – спрашивает мой зам Печкин, на его широком лице с усиками снисходительное выражение.
– Ни одна работа не удовлетворяет, – заявляю я, – если не ищешь в ней разгадки своей судьбы. Тем более, на работе по принуждению. Конфуций говорил: найди в работе свою душу, и труд исчезнет. Что-то вроде.
Их работа, по Марксу, называется отчужденным трудом, то есть люди не знают, на какого дядю работают, как это было во все времена. Упорно сохраняют традицию и в новой независимой организации, мягко выскальзывая из-под скучных обязанностей.
Я тоже потерял смысл моей работы, хотя сам создал эту обузу. Напряжением мозга затачиваю письма инстанциям, чтобы достигнуть какого-то меркантильного результата, видимо, выскочить на простор известности, чтобы повлиять на общественную обстановку. Иногда, очнувшись, удивлялся усилиям моей организации прорваться в никуда, нашей рациональной встроенности в модернизацию, за горизонтом которой не было видно счастья.
– Хотел сказать: когда ставишь высокую цель, то деньги приходят сами. А не наоборот.
Это стало понятней.
– Если не чувствуете наш Гражданский союз своим, то можете уходить.
Сотрудники чувствовали. Им казалось, я руковожу из глубин готовых стратегических замыслов.
Моя идея воплощалась трудно и почти бессознательно, в потемках: мы «тихой сапой» собирали вокруг себя общественные организации и предприятия, малые и средние (мегакорпорации и их сети, кормящиеся от бюджета, были самодостаточны, посылая в ж… нас, не имевших миллиона баксов). Я, наконец, уже не ощущал в моей новой программе несерьезных обертонов, которых стыдился в своих ранних проектах. Не хватало знаний. Тем более, я дилетант, то есть равномерно нахватывающий знания из всего, что под рукой.
В то время по общественным объединениям прокатилась волна расколов. Многие осознали, что можно стать самостоятельным, взять власть, неважно, кто создавал организацию и сколько сил вложил. Меня удивляло, как возникает драма. Одни – в головокружительном возбуждении – открывают, что можно что-то захватить, отнять. Другие — жертвы в негодовании от предательства начинают защищаться. И на ровном месте возникает жестокий конфликт, до смертоубийства. Ходили слухи, что Протасов пытается сколотить свою организацию на базе наших филиалов.