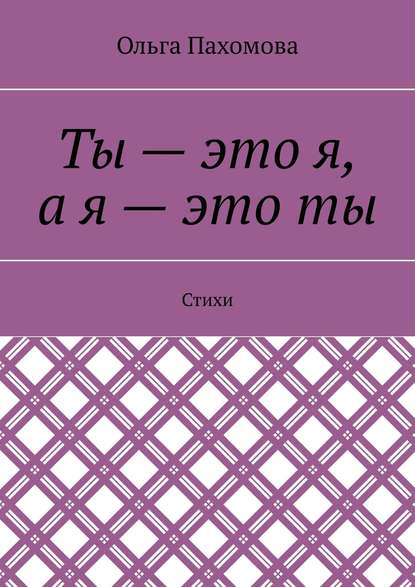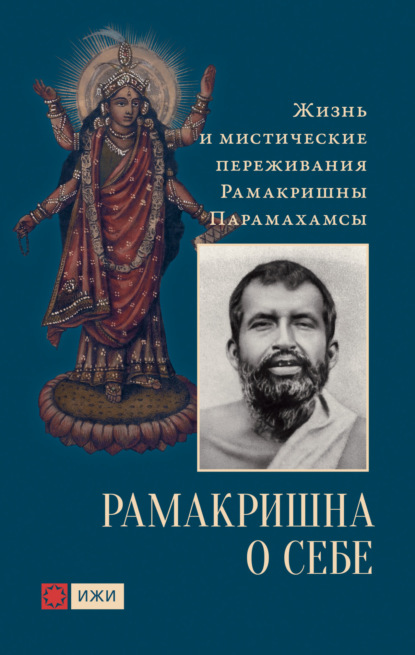Гойя, или Тяжкий путь познания

- -
- 100%
- +
– А еще я заходила к Лусии, – продолжала Пепа. – И она тоже меня навестила.
Гойе хотелось услышать, что Лусия сказала о портрете. Но Пепа не торопилась сообщить ему мнение подруги. Ему пришлось самому спросить ее об этом. Да, она несколько раз заговаривала с ней о своем портрете.
– Ты ведь изобразил ее в желтом платье. Оно тоже от мадемуазель Лизетт. Та взяла с нее за работу восемьсот реалов! Вот какие у нее цены.
Гойя с трудом подавил в себе раздражение.
– А что донья Лусия сказала о самом портрете?
– Она удивляется, что ты никак его не закончишь. Говорит, что портрет давно готов, и не понимает, почему ты не хочешь показать его ее мужу. Признаться, я тоже этого не понимаю. Правда, дону Мигелю трудно угодить, вечно он всем недоволен. Но ты же обычно не тратишь столько времени на какой-то портрет. Сколько же, интересно, дон Мигель тебе заплатит? А может, и вовсе не заплатит? Вы же с ним друзья. Во всяком случае, на свои три тысячи реалов можешь не рассчитывать.
Гойя встал, прошелся по комнате. Пожалуй, все же лучше ему было остаться дома и ужинать с семьей.
– Скажи, Франсиско, – не унималась Пепа, – почему ты все-таки так мучаешься с этим портретом? Над моим портретом для адмирала ты не работал и трех дней, и он заплатил тебе четыре тысячи. Неужели Лусию настолько труднее нарисовать, чем меня? А может, причина в другом? Может, ты хочешь с ней переспать? Или уже переспал? Она, конечно, хороша, что и говорить…
Пепа говорила небрежно, так, словно ей все это было безразлично.
Лицо Гойи помрачнело. Может, Пепа просто решила подразнить его? Едва ли. С ней часто случались подобные приступы холодной рассудительности. Пожелай он этого всерьез, он давно бы уже покорил донью Лусию, несмотря на все ее маски и дамские ухищрения. Но… тут много всяких «но». Пепа иногда бывает несносной. В сущности, она вообще не в его вкусе – пухленькая, настоящая хамона, этакий прелестный розовый поросенок с гладкой, атласной кожей.
Пепа взяла гитару и запела. Она пела тихо, с чувством. Гойя любил смотреть на нее, когда она распевала старинные народные романсы, аккомпанируя себе на гитаре. Он знал, что в этих песнях она мысленно заново переживала собственные злоключения.
За свои двадцать три года Пепа многое успела повидать. Выросла она в испанских колониях, в Америке, в семье богатого плантатора. Когда ей было десять лет, ее отец лишился своих кораблей, состояния и вернулся с семьей в Европу. После привольной, богатой жизни на Пепу обрушились горькая нужда и лишения. Веселый нрав помог ей благополучно пережить эти тяжелые перемены и не пасть духом. Потом в ее жизнь вошел молодой морской офицер Фелипе Тудо. Он был хорош собой и покладист, и жили они счастливо, но Фелипе не имел состояния и ради нее наделал много долгов. Семейное счастье их едва ли продлилось бы долго. Вскоре, во время похода его эскадры в мексиканские воды, он погиб и, несомненно, попал сразу в рай, потому что был добрым человеком. Когда Пепа подала прошение адмиралу де Масарредо[17] о повышении пенсии, старый толстяк влюбился в нее без памяти. Он ласково называл ее вьюдитой, маленькой, сладкой вдовушкой, и нанял ей прелестную квартиру на калье[18] Майор. Пепа понимала, что адмирал не может ввести ее в круг своих знатных друзей; ей достаточно было и того, что он заказал ее портрет знаменитому придворному живописцу. Сейчас, во время войны, адмирал бороздил со своей армадой дальние моря, и Пепа была рада художнику, изъявившему желание скрасить ее одиночество.
У Пепы был мирный характер, и она довольствовалась тем, что имела. Правда, она часто вспоминала счастливую жизнь в колониях, огромные поместья, бесчисленное множество рабов. От всех этих богатств ей осталась лишь старая, преданная Кончита, кристально честная, которая плутует, только играя в карты. Франсиско, Франчо, – верный друг, настоящий мужчина, мечта любой вдовы и великий художник. Но он слишком занят, всем от него что-то нужно, все заявляют на него свои права – искусство, двор, многочисленные друзья и женщины, и даже когда он бывает у нее, мысли его не всегда обращены к ней.
Обо всем этом думала Пепа Тудо, распевая баллады. В своих грезах она представляла себя их героиней, например молодой красавицей, похищенной маврами или проданной маврам своим же любовником. Ах, как славно, думала она, быть боготворимой белой возлюбленной храброго темнокожего принца! Мечтала она и о том, что, возможно, счастье когда-нибудь улыбнется ей и здесь, в Мадриде, и уже видела себя одной из тех дам, что три-четыре раза в году покидают свои городские дворцы и предаются увеселениям в загородных поместьях, а потом снова возвращаются ко двору, окруженные дворецкими, камеристками и куаферами, щеголяя роскошными парижскими туалетами и драгоценностями, добытыми столетия назад полководцами королевы Изабеллы Католической или Карла V.
Пепа помогла дуэнье накрыть стол, и они сели ужинать. Еда была вкусная и обильная. И хозяйка, и гость ели с удовольствием.
Со стены на них смотрел адмирал Федерико де Масарредо. Он некогда заказал Гойе свой портрет для сестры, а потом еще и копию – для Пепы, которую добросовестно выполнил Агустин Эстеве. И вот теперь адмирал немым свидетелем взирал на их трапезу.
Гойю влекла к Пепе не страсть, а та беспечность и ласка, с которой она ему отдалась. Его здравый крестьянский рассудок подсказывал ему, что Пепе их любовь стоит определенных жертв. Он знал о плачевном состоянии ее денежных дел. После смерти мужа она брала уроки актерского мастерства у великой Тиранки[19] и поиздержала на этом свои последние сбережения. Сейчас, после начала войны, она ежемесячно получала полторы тысячи реалов. Сколько из них поступало из казны, а сколько из кармана адмирала, оставалось загадкой. Полторы тысячи реалов было и много, и мало. Платья от мадемуазель Лизетт она с такими доходами не могла себе позволить. Гойя не был скуп и часто делал своей милой, прелестной подруге подарки, иногда скромные, иногда дорогие. Но его то и дело одолевала расчетливость арагонского крестьянина, и нередко, справившись о цене задуманного подарка, он отказывался от своего намерения.
Кончита убрала посуду со стола. В комнате было тепло, донья Пепа полулежала на диване, красивая, томная, чувственная, и лениво обмахивалась веером. Она, очевидно, вновь вспомнила о донье Лусии и ее портрете, потому что, указав веером на адмирала, сказала:
– С ним ты тоже не перетрудился. Каждый раз, глядя на него, я замечаю, что правая рука вышла слишком короткой.
В груди Гойи вдруг вскипела злоба, накопившаяся за последние дни: его измучили ожидание встречи с Альбой, бессилие и неспособность закончить портрет доньи Лусии, дурные политические вести, критика со стороны Агустина. А теперь еще и Пепа со своей глупостью и наглостью! Кого она вздумала поучать, эта безмозглая хрюшка? Мужчину, на которого сама герцогиня Альба – в присутствии знатнейших людей Испании – смотрела так, будто уже лежит с ним в постели?.. Он взял свою серую шляпу и нахлобучил ее Пепе на нос.
– Сейчас ты видишь в портрете адмирала столько же, сколько и без шляпы! – произнес он со злостью.
Она не без труда стащила с себя шляпу; высокая прическа ее при этом серьезно пострадала, отчего она стала похожа на забавного, хорошенького ребенка.
– Кончита! – сердито крикнула Пепа, и когда старуха появилась на пороге, приказала: – Покажи дону Франсиско, где у нас выход!
– Вздор! – рассмеялся Франсиско. – Не обращай внимания, Кончита, ступай к себе на кухню.
Когда та ушла, он извинился:
– Прости, Пепа, я сегодня немного не в духе, у меня столько неприятностей. Между прочим, твои слова о портрете адмирала и в самом деле умными никак не назовешь. Посмотри внимательнее, и ты увидишь, что рука у него вовсе не короткая.
– Нет, короткая! – возразила она обиженно-капризным тоном.
– Да ты просто слепая курица, хотя и очень хорошенькая, особенно с растрепанными волосами, – добродушно пошутил он. – Так и быть, я дам денег на новую куафюру.
Он поцеловал ее.
Позже, в постели, она сказала:
– А ты знаешь, что на днях возвращается дон Федерико? Мне сообщил об этом от его имени капитан Моралес и передал от него привет.
Франсиско на минуту задумался, представив себе связанные с этим перемены.
– Что же ты будешь делать, если он и в самом деле вернется?
– Скажу ему все как есть, – ответила она. – «Все кончено, прощай, мой друг, навеки», – процитировала она один из своих романсов.
– Бедняга очень огорчится, – вслух размышлял Гойя. – Сначала он теряет Тулон, а потом еще и тебя.
– Тулон потерял вовсе не адмирал, – принялась Пепа деловито защищать своего адмирала, – а англичане. Но виноват будет он – обычная история.
Помолчав немного, Франсиско высказал мысль, занимавшую его все это время:
– А что будет с твоей пенсией?
– Не знаю, – беспечно ответила Пепа. – Что-нибудь, верно, останется.
Заводить себе содержанку вовсе не входило в планы Гойи; как знаменитый художник, он не имел в этом никакой нужды. К тому же Пепа занимала не такое уж важное место в его жизни, он прекрасно мог обойтись и без нее. С другой стороны, он считал вполне естественным, что красивой женщине хочется жить в роскоши и богатстве, и для него было бы оскорбительно, если бы она – только потому, что он, Гойя, дает ей слишком мало денег, – нашла себе другого покровителя или того хуже – вернулась к адмиралу.
«Все устроится, – сказал он. —Не тревожься. ПозабочусьЯ о том, чтобы как преждеТы жила». Но слышно былоВ голосе его сомненье.«Что ж, спасибо», – отвечалаПепа. «Ну а адмиралаСо стены мы этой снимем!» —Бодро предложил Франсиско.«Но зачем? – спросила Пепа. —Недоволен ты рукоюЧересчур короткой? Знай же:Я нашла ее короткойПотому лишь, что так долгопишешь ты портрет Лусии».5
Он стоял один перед портретом, впившись в него взором и придирчиво изучая каждую деталь. Нет, это, без сомнения, донья Лусия. Такой он видел ее, такой она и была, живой, зримой и осязаемой. Все передано верно – маскообразность лица, некоторая искусственность, недосказанность, какой-то подтекст. Да, в ней был некий подтекст, не случайно многим казалось, что они уже видели эту тридцатилетнюю женщину раньше, но без маски светской дамы.
Пепа все допытывалась, хочет ли он спать с доньей Лусией. Глупый вопрос. Каждый здоровый мужчина в расцвете лет готов спать с любой мало-мальски хорошенькой женщиной, а донья Лусия Бермудес не просто хороша, а чертовски хороша и находится во всеоружии своей особой красоты, не похожей на красоту других женщин.
Ее муж, дон Мигель, был ему другом. Но он не пытался обмануть себя: причина, по которой он не хотел тратить ни сил, ни времени на обольщение Лусии, крылась не в этой дружбе. Единственное, что его останавливало, – это как раз та загадочность, та неопределенность в ней самой. Она привлекала его как художника, но не как мужчину. Реальное и нереальное сливались в ней в одно неразрывное целое, призрачное и зловещее. Однажды оно вдруг открылось ему, на балу у дона Мигеля. Это был серебристый тон на желтом платье, загадочное мерцание, тот проклятый и благословенный свет. В нем и заключалась ее правда, его правда, именно этот образ он хотел запечатлеть.
И вдруг он снова это увидел. Он вдруг понял, как передать то серебристое мерцание, тот струящийся магический свет, поразивший его тогда на балу. Дело не в фоне, не в белом кружеве на желтом платье. Нужно смягчить вот эту линию и еще вот эту, усилить телесный тон, свет, излучаемый рукой, лицом. Казалось бы, мелочь, пустяк, но в нем вся соль. Гойя закрыл глаза и словно прозрел. Он знал, что ему делать.
И снова работа. Тут убрать, там прибавить – крохотные, незаметные для постороннего глаза изменения. Все получалось само собой, без особых усилий. Гойя и сам удивился той быстроте, с которой наконец закончил портрет.
Он окинул взором свое детище. Портрет был хорош. Он добился своего. Родилось нечто новое, великое. С полотна на него смотрела именно та женщина, какой и была донья Лусия, со всем ее мерцанием, со всей недосказанностью. Ему удалось запечатлеть эту струящуюся неуловимость. Это был его свет, его воздух – его мир.
Лицо его просветлело и приняло благостное, почти глупое выражение. Он устало опустился в кресло.
Вошел Агустин. Мрачно поздоровался. Сделал несколько шагов. Прошел мимо портрета, скользнув по нему рассеянным взглядом. Но что-то в картине успело привлечь его внимание. Он резко обернулся. Взгляд его стал острым, сосредоточенным.
Он смотрел долго.
– Да, это оно, дон Франсиско, – произнес он наконец чуть хриплым голосом. – Теперь все правильно. Теперь у вас есть и воздух, и свет. Теперь ты нашел ту самую серебристость, которая тебе была нужна, Франсиско.
Гойя расплылся в улыбке, как мальчишка.
– Ты не шутишь, Агустин? – спросил он и обнял его за плечи.
– Я редко шучу.
Агустин был глубоко взволнован, пожалуй даже сильнее, чем Франсиско. Он не сыпал направо и налево цитатами из Аристотеля и Винкельмана, как дон Мигель Бермудес или аббат. Он ничего не умел, художник он был плохонький, но живопись понимал лучше, чем кто бы то ни было, и знал, что Франсиско Гойя, его друг Франчо, достиг в этом портрете того, о чем не дано было даже мечтать еще нескольким поколениям живописцев: он сбросил с себя ярмо линии. Другие упорно добивались чистоты линии, их живопись была, в сущности, не более чем раскрашенным рисунком. А этот Франсиско научил всех видеть мир по-иному, открыл его многообразие. И при всем своем самомнении он, похоже, даже не подозревал, насколько новым и великим было то, что он сделал.
Гойя принялся тщательно, с нарочитой медлительностью мыть свои кисти. Занятый этой работой, ликуя в душе, он задумчиво произнес:
– Я еще раз напишу твой портрет, Агустин. Ты наденешь свой замызганный коричневый сюртук и сделаешь угрюмое лицо. Это будет великолепно с моей серой подцветкой, как ты думаешь? Твоя мрачность и мое свечение – это будет особый эффект. – Он подошел к огромному конному портрету, над которым все еще работал Агустин. – Лошадь – что надо! – одобрительно произнес он. – Особенно задница.
Агустин был преисполненЖгучей радости сознанья,Что его он друг, собрат и дажеСмог помочь ему своимиНеуклюжими речамиИ на верный путь наставить.С теплым и почти отцовскимЧувством он смотрел на Франчо —Так любуются ребенком,Милым, одаренным, склоннымК глупым, дерзостным проказам.И поклялся он, что будетВпредь безропотно причудыВсе и брань сносить строптивцаДорогого своего.6
На следующий день, получив известие о том, что портрет готов, дон Мигель и донья Лусия Бермудес явились в мастерскую Гойи.
Несмотря на то что Франсиско Гойя и Мигель Бермудес прекрасно видели недостатки друг друга, их связывала настоящая дружба. Дон Мигель, первый секретарь всемогущего дона Мануэля, герцога Алькудиа, негласно, из-за кулис, вершил судьбы Испании. Ему, человеку прогрессивному, в сущности франкофилу, приходилось являть чудеса ловкости, чтобы в эти непростые времена успешно противостоять интригам инквизиции, и Франсиско восхищался той скромностью, с которой Мигель скорее скрывал, чем афишировал свою власть. Зато как ученый, прежде всего историк искусств, Мигель не проявлял чрезмерной скромности, и опубликованная им большая энциклопедия художеств поражала безапелляционностью оценок и суждений. Вслед за Винкельманом и Рафаэлем Менгсом сеньор Бермудес признавал только благородную простоту линии и призывал к подражанию античным мастерам. Рафаэля Менгса и шурина Гойи Байеу он считал величайшими испанскими художниками современности и с вежливой настойчивостью выражал своему другу Франсиско глубокое огорчение тем, что тот в последнее время все чаще отступал от классических принципов.
Гойя с детским нетерпением предвкушал минуту, когда покажет другу на примере портрета его жены, чего можно достичь как раз отступлением от правил. Он был уверен, что, несмотря на свою приверженность канону, Мигель способен по достоинству оценить подлинное искусство. Его прямолинейно-педантичный друг, который при всей своей наигранной невозмутимости и сам сгорал от нетерпения увидеть новую работу Гойи, конечно же, не преминет в очередной раз осчастливить его многословным изложением своих драгоценных принципов, прежде чем он поразит его своей мерцающей доньей Лусией. Поэтому он повернул ее со всем ее воздухом, светом и волшебством к стене, так что зрители могли созерцать только голый, грубый серо-бурый холст.
Все произошло именно так, как он ожидал. Дон Мигель сидел, заложив ногу за ногу; на белом, припудренном, угловатом лице его с высоким ясным челом застыла полуулыбка.
– Мне посчастливилось, несмотря на войну, приобрести эти парижские гравюры, – сообщил он, указывая на принесенную с собой большую папку. – То-то вы удивитесь, дорогие мои, ты, Франсиско, и вы, дон Агустин. Это гравюры Мореля, и они знакомят с самыми значительными работами Жака Луи Давида[20] за последние годы.
Жак Луи Давид был известнейший художник Франции, глава классической школы, столь высоко ценимой Бермудесом.
На гравюрах были представлены сцены из Античности, изображения людей и картины современной жизни, также выдержанные в классическом, античном стиле: французские депутаты, приносящие в Зале для игры в мяч клятву покончить с тиранией, портреты Дантона и Демулена и, конечно же, убитый Марат[21] в ванне.
Творчество французского художника было чуждо Гойе и по форме, и по духу. Но он, как никто другой, понимал всю степень мастерства, с которым были написаны эти картины. Например, Марат. Обмякшее тело, упавшая на плечо голова, свисающая из ванны правая рука, зажатое в левой руке прошение, поданное ему коварной убийцей, – все написано с холодным мастерством, с нарочитым бесстрастием, но насколько волнующим было это зрелище! Сколько в нем красоты и величия, несмотря на весь реализм в передаче этого уродливого лица! Как, должно быть, любил художник этого «друга народа»! Впечатление от картины, во всей ее отвратительной и великолепной реальности, было настолько сильным, что Гойя на некоторое время из художника, критически оценивающего работу своего собрата по цеху, превратился в простого зрителя, охваченного страхом перед роком, который подстерегает каждого и от которого нет спасения ни в труде, ни в отдохновении, ни за мольбертом, ни на ложе любви, ни в ванне.
– От его картин веет могильным холодом, – произнес он наконец. – Великий человек, достойный презрения… – При этих словах все невольно вспомнили, что художник и революционер Давид голосовал в Конвенте за смерть своего покровителя, Людовика XVI. – Я даже на месяц не променял бы свою жизнь на его – даже за славу Веласкеса.
Сеньор Бермудес принялся объяснять, как убедительно доказывают картины Давида, что подлинное искусство зиждется на изучении Античности. Линия – вот альфа и омега. Цвет же – всего лишь неизбежное зло, и единственное его предназначение – повиноваться.
Франсиско добродушно ухмылялся. Но тут в беседу вступил дон Агустин. Он с уважением и даже с восторгом относился к смелой и в то же время гибкой политике сеньора Бермудеса. Но все остальное в этом человеке было ему чуждо. Более всего его раздражали в нем сухость, педантизм и напыщенная назидательность речей. Он не мог понять, как такая тонкая и причудливо-сложная натура, как донья Лусия, могла связать свою судьбу с этой ходячей энциклопедией, с этим духовным скопцом. И заранее злорадствовал в ожидании того, как Франсиско своей картиной посрамит дона Мигеля с его дурацкой ученой теорией на глазах у доньи Лусии.
– Картины Давида, которые вы нам показали, дон Мигель, – с подчеркнутой вежливостью произнес он своим глухим голосом, – и в самом деле кажутся вершиной живописного искусства.
– Они и есть вершина живописного искусства, – поправил его Бермудес.
– Да, они и есть вершина живописного искусства, – согласился Агустин и продолжил зловеще-дружелюбным тоном: – И все же я вполне могу представить себе, что с помощью столь ненавистного вам цвета можно достичь новых, неожиданных эффектов. То есть той самой вершины.
Он решительно подошел к стене и энергичным движением поднял серо-бурый холст.
– Я понимаю, что вы имеете в виду, дон Агустин, – с улыбкой ответил дон Мигель. – Нам с доньей Лусией не терпится увидеть портрет, над которым так долго…
Он не договорил. С мольберта на него смотрела другая, мерцающая донья Лусия. Он молча стоял перед портретом. Тонкий знаток живописи, привыкший оценивать картины с точки зрения выверенных теорий, вдруг забыл о всяких теориях. Женщина на картине была ему до боли знакома, и в то же время он не узнавал ее – настолько ошеломляющей казалась разница между портретом и оригиналом. С трудом скрывая смущение, он невольно перевел взгляд на живую Лусию.
Много лет назад, когда он женился на ней, она была махой, девушкой из народа, импульсивной, непредсказуемой, и женитьба на ней была с его стороны смелым и рискованным шагом. Но инстинкт, жизненный опыт и изучение классиков научили его, что тот, кто долго думает, часто остается с носом и что боги лишь раз в жизни посылают смертному такую удачу. И он ни разу не пожалел о своем опрометчивом решении. Жена до сих пор оставалась для него такой же любимой и желанной, как и в первый день. К тому же из простой девушки с сомнительными манерами она превратилась в великосветскую даму, сеньору Бермудес, предмет зависти многих знатных мужчин. Она и здесь, на холсте, была светской дамой, обольстительной и импозантной, но теперь в ее образе он видел некую недосягаемость, некий серебристо-мерцающий ореол и в одно мгновение понял: Лусия, которую он, как ему казалось, за эти годы изучил до конца, до последней черточки, осталась для него такой же волнующей загадкой, такой же чужой, такой же непредсказуемой, как в день их первой встречи: она по-прежнему была махой.
Гойя с радостным удовлетворением наблюдал за другом, на лице которого, обычно столь невозмутимом, было написано нескрываемое изумление. Да, дорогой мой Мигель, методы твоего месье Давида хороши; четкие линии – вещь полезная, они четко передают четко очерченные предметы. Но люди и окружающий их мир не отличаются особой четкостью и однозначностью образов. То, что недоступно для глаза, – флюиды зла, скрытую угрозу, колдовство, изнанку души – твоими средствами не передашь, этому не научишься у твоих хваленых античных мастеров, тут тебе не помогут ни твои Менгсы, ни Винкельманы.
Франсиско и сам перевел взгляд с запечатленной на холсте Лусии на живую. Та глядела на картину в глубоком молчании. Ее узкие, раскосые глаза смотрели из-под высоких, учтиво-надменных бровей на едва заметное сияние, окружавшее фигуру; капризное лицо-маска немного оживилось, большой приоткрытый рот тронула улыбка, но не тонкая и насмешливая, как обычно, а более двусмысленная, более опасная, пожалуй даже более вульгарная, порочная. И Гойя вдруг вспомнил случай, который давно забыл и долго искал в памяти. Как-то раз, много лет назад, он гулял со своей подругой по Прадо[22], и к нему пристала авельянера, торговка миндалем, совсем юная, лет четырнадцати или пятнадцати. Он хотел купить миндаля для своей дамы, но юная торговка запросила слишком высокую цену, он принялся торговаться, и эта девчонка, настоящая маха, обрушила на него целый водопад насмешек и брани:
– Два реала?.. Погодите, сударь, я должна спросить своего хозяина. Я скоро вернусь, не пройдет и полгода. – И она завопила на всю улицу, обращаясь к другим торговкам: – Сюда, подружки мои! Тут одна щедрая душа сорит деньгами! Это настоящий кавалер – он решил тряхнуть мошной и потратить на свою даму целых два реала!
Побелев от злости и стыда, он швырнул тогда юной нахалке пять реалов. И теперь его захлестнуло чувство радости, что он сумел сохранить частицу того далекого прошлого, перенеся ее в свою Лусию, запечатлеть частицу этой вульгарной, бойкой Лусии с ее плебейской склонностью к дерзким ответам и грубым шуткам. Своей картиной он заставил ее на мгновение снять маску и внутренне ликовал от этого.
Дон Агустин, глядя на стоящую перед картиной Лусию, видел, как красота живой женщины подчеркивает красоту портрета, а великолепие портрета – роскошную прелесть женщины, и сердце его сжималось от вожделения и восторга.
Молчание затянулось.
– Для меня это новость: оказывается, я еще и порочна, – медленно промолвила наконец донья Лусия, обращаясь к Франсиско.
Но на этот раз ее игривый тон и улыбка выдавали больше, чем за ними скрывалось. Она бросила Франсиско явный вызов и намеревалась затеять с ним дерзкую игру, ничуть не смущаясь присутствием мужа. Однако Гойя не поддался на провокацию и учтиво ответил:
– Я рад, донья Лусия, что портрет вам понравился.
Их слова вывели Агустина из сладостного оцепенения и напомнили ему о желании посрамить дона Мигеля.
– Любопытно было бы узнать, доволен ли ваш высокочтимый супруг портретом так же, как вы, – произнес он своим хриплым голосом.