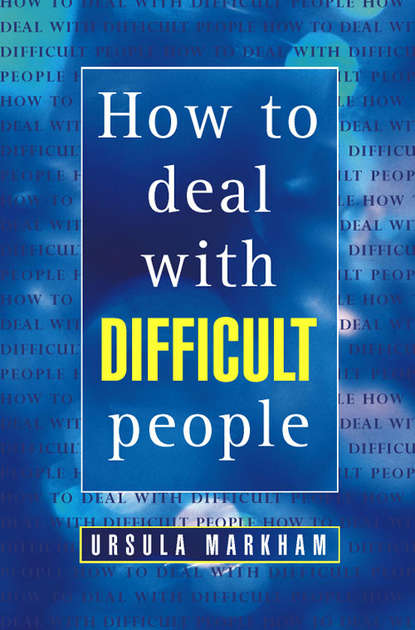- -
- 100%
- +
Он видел, что ей не нравится, когда он уходит – идет по краю утеса по своим делам, решительными шагами, совсем не похожий на того несчастного, что еще совсем недавно бродил здесь же, убивая время. Она понимала, что он должен уйти, была благодарна и выражала это красноречиво (Уимс думал, что никогда не ему встречалась столь выразительная благодарность), но ей это не нравилось. Он видел это; видел, как она держится за него, – и это льстило ему.
– Не задерживайтесь, – шептала она каждый раз, и в глазах ее читалась страстная мольба. А когда он возвращался, стоял перед ней, вытирая пот со лба, успешно продвинув похоронные дела еще на шаг, на ее щеках появлялся слабый румянец, а во взгляде – облегчение ребенка, оставшегося в темноте и увидевшего, как в комнату входит мать со свечой. Вера никогда так на него не смотрела. Вера принимала все, что он для нее делал, как должное.
Разумеется, он не мог позволить бедной девочке ночевать одной в этом доме с покойником, да еще с чужими слугами, нанятыми вместе с домом и не знавшими ни ее, ни отца – кто знает, не проявят ли они свой норов с наступлением ночи и не сбегут ли в деревню? Поэтому около семи он принес свои вещи из старомодной гостиницы в бухте и объявил, что будет спать на диване в гостиной. Он уже завтракал с ней, пил чай, теперь собирался ужинать. «Что бы она делала без меня?» – думал Уимс.
Он считал, что поступает тактично, выбирая диван. Мог бы претендовать на кровать в комнате для гостей, но не хотел ни малейшим образом воспользоваться бедственным положением девушки. Слуги, считавшие его родственником (а они решили это с первой минуты, увидев его – солидного, немолодого – держащим молодую леди за руку под тутовым деревом), удивились, зачем стелить в гостиной, когда наверху есть две свободные гостевые, но покорно повиновались, смутно предположив, что это как-то связано с бдительностью и французскими окнами. А Люси, когда он сказал, что останется на ночь, была так благодарна, так искренне признательна, что глаза ее, покрасневшие от приступов горя (они накатывали с тех пор, как она увидела умершего отца – далекого, погруженного в какую-то глубокую, сосредоточенную задумчивость, – и это растаяло, унося ее в море страстных рыданий), снова наполнились слезами.
– О, – прошептала она, – вы так добры…
Это Уимс все обдумал за нее, в перерывах между визитами к гробовщику, к доктору за справкой, к викарию насчет погребения, послал телеграмму ее единственной родственнице – тетке, отправил некролог в «Таймс» и даже заметил, что на ней голубое платье, и спросил, не лучше ли надеть черное. И теперь этот последний пример его заботливости полностью покорил ее.
Она боялась ночи, даже думать о ней не смела – в такой ужас приводила ее ночь; и каждый раз, когда он уходил по делам, в сердце ее закрадывалась мысль: что будет, если когда зайдет солнце, он уйдет в последний раз, и она останется одна, совсем одна в молчаливом доме, а наверху – та странная, чудесная, погруженная в себя вещь, что когда-то была отцом… И что бы с ней ни случилось, какой ужас ни охватил бы ее ночью, с какой бы опасностью она ни столкнулась – он не услышит, он не узнает, будет лежать там безропотный, умиротворенный…
– Как вы добры! – сказала она Уимсу, и ее покрасневшие глаза наполнились слезами. – Что бы я без вас делала?
– А что бы я делал без вас? – ответил он, и они вгляделись друг в друга, пораженные природой их связи, ее крепостью, почти чудесной предопределенностью их встречи на гребне отчаяния и того, что они спасут друг друга.
Долго после того, как в небе зажглись звезды, они сидели вместе на краю утеса. Уимс курил и рассказывал приглушенным – ночью, тишиной и обстоятельствами – голосом о своей жизни, о ее размеренном, здоровом спокойствии, царившем до прошлой недели. Он не мог понять, почему это спокойствие было нарушено, да еще так жестоко. Он ведь не заслужил этого. Он не стал бы утверждать, что творил одно лишь добро, но по крайней мере мог честно сказать, что никому не делал зла.
– О, но вы творили добро, – сказала Люси, и ее голос, приглушенный ночью, тишиной и обстоятельствами, дрожал от чувства, был прекрасен своей искренностью, простой убежденностью. – Я уверена, вы всегда, всегда творили добро и были добры. Не могу представить вас другим – только помогающим людям, утешающим их.
А Уимс отвечал, что, конечно, старался, но, судя по тому, что… ну, что говорили люди, это не всегда удачно получалось, и его часто, очень часто ранило, глубоко ранило непонимание.
Люси спросила, как вообще можно не понять его, такого ясного в своей доброте, такого очевидно доброго?
А Уимс согласился: да, казалось бы, его легко было понять; он был очень простым, естественным человеком, и всю жизнь просил лишь мира и покоя. Не так уж и много он просил. Вера…
– Кто такая Вера? – спросила Люси.
– Моя жена.
– Ах, не надо, – серьезно сказала Люси, мягко беря его руку в свою. – Не говорите об этом, не сегодня, пожалуйста, не думайте об этом. Если бы я только могла найти слова, чтобы утешить вас…
А Уимс сказал, что слова не нужны – достаточно того, что она здесь, с ним, позволяет ему помогать ей, и вообще она не связана ни с чем из его прошлой жизни.
– Мы словно два ребенка, – сказал он, и его голос, как и ее голос, стал ниже от чувств, – два испуганных, несчастных ребенка, жмущихся друг к другу во тьме.
Так они и говорили тихими голосами, как говорят люди где-то в священном месте, сидя рядом друг с другом, глядя на море в свете звезд, окруженные тьмой и прохладой, и трава пахло так сладко после жаркого дня, и маленькие волны так далеко внизу лениво плескались о гальку, – пока Уимс не сказал, что уже, должно быть, поздно и ей, бедняжке, необходимо отдохнуть.
– Сколько вам лет? – вдруг спросил он, повернувшись и вглядываясь в изящные, бледные очертания ее лица на фоне ночи.
– Двадцать два, – ответила Люси.
– Вам бы легко можно было дать двенадцать, – сказал он, – если бы не то, что вы говорите.
– Это из-за волос, – сказала Люси. – Отец любил… он любил…
– Не надо, – Уимс в свою очередь взял ее руку. – Не надо больше плакать. Не сегодня. Пойдемте – пора в дом. Вам пора ложиться спать.
Он помог ей подняться, и в свете передней увидел, что на этот раз ей удалось сдержать слезы.
– Спокойной ночи, – сказала она, когда он зажег для нее свечу, – спокойной ночи и… да хранит вас Бог.
– Да хранит вас Бог, – торжественно сказал Уимс, сжимая ее руку в своей большой теплой ладони.
– Он уже меня хранит, – сказала Люси. – В самом деле хранит, ведь Он послал мне вас. – И она улыбнулась ему.
Впервые с тех пор, как он ее знал (а у него тоже было чувство, что знает ее всю свою жизнь), он увидел, как она улыбается, – и то, как улыбка преобразила ее омраченное, заплаканное лицо, поразило его.
– Сделайте это еще раз, – сказал он, все еще держа ее за руку.
– Что? – спросила Люси.
– Улыбнитесь, – сказал Уимс.
Тогда она рассмеялась; но этот смех в молчаливом, мрачном доме прозвучал ужасно.
– О, – ахнула она, осекшись, устыдившись того, как это прозвучало.
– Помните, вам следует спать и ни о чем не думать, – наказал Уимс, пока она медленно поднималась по лестнице.
И она немедля уснула – измученная, но защищенная, словно безутешный ребенок, выплакавший все свои слезы и наконец нашедший мать.
IVОднако всему этому на следующий день пришел конец, когда ближе к вечеру прибыла мисс Энтуистл, тетка Люси.
Уимс удалился в свою гостиницу и не появлялся до следующего утра, давая Люси время объяснить его присутствие; но либо тетка была невнимательна (что было вполне объяснимо столь внезапным стечением так плачевно сложившихся для нее обстоятельств), либо объяснения Люси оказались недостаточно ясными, поскольку мисс Энтуистл приняла Уимса за друга своего «дорогого Джима» – одного из многочисленных друзей ее «дорогого, дорогого брата» – и с душевным волнением, теплотой и воспоминаниями приняла его помощь как нечто само собой разумеющееся.
Теперь Уимс стал для нее опорой, так же, как и для Люси, и она в свою очередь ухватилась за него. Если раньше за него держалась одна, то теперь их было двое, что положило конец их уединенным беседам. До самых похорон он ни разу не оставался с Люси наедине, но зато, благодаря зависимости мисс Энтуистл от него, избавился от часов одиночества. Кроме завтрака, все трапезы он проводил в домике на утесе, а по вечерам курил трубку под тутовым деревом до самого отбоя, пока мисс Энтуистл в темноте тихо и торжественно вспоминала прошлое, а Люси молча сидела как можно ближе к нему.
По совету доктора с похоронами поторопились, но даже короткий срок и дальняя дорога не помешали друзьям Джеймса Энтуистла приехать. Маленькая церковь в бухте была переполнена; скромная гостиница ломилась от озабоченных, опечаленных гостей. Уимс, который все делал и был всем, растворился в этой толпе. Никто не обращал на него внимания. У них с Джеймсом Энтуистлом (к счастью для него, как он подумал, учитывая что в обществе еще не забыли свежие газетные публикации) не оказалось общих друзей. На двадцать четыре часа эта нахлынувшая волна скорбящих полностью отрезала его от Люси, и во время службы он мог лишь издали, со своего места у двери, бросить мимолетный взгляд на ее склоненную голову на скамье в первом ряду.
Он снова почувствовал себя очень одиноким. Он не остался бы в церкви ни на минуту, поскольку со здравым нетерпением относился к похоронным церемониям, если бы не считал себя, так сказать, постановщиком этих самых церемоний и в глубоко личностном смысле они ему принадлежали. Он гордился ими. Учитывая то, как мало у него было времени, результат был действительно впечатляющим – то, как он все устроил и как гладко все шло. Но завтра… что будет завтра, когда все эти люди разъедутся? Увезут ли они Люси и тетку? Закроет ли свои двери домик на утесе, и останется ли он, Уимс, снова один на один со своими горькими, мучительными воспоминаниями? Конечно, он не останется в этом месте, если Люси уедет, но куда бы он ни отправился, везде будет пусто – без ее благодарности, нежности, без того, как она держалась за него. Последние четыре дня они дарили друг другу утешение, и он не мог не верить, что без него она почувствует ту же пустоту, какую он наверняка почувствует без нее.
В темноте под тутовым деревом, пока тетка тихо и печально говорила о прошлом, Уимс иногда брал Люси за руку, и она никогда не отнимала ее. Они сидели так, довольные и умиротворенные тем, что держатся за руки. Он чувствовал, что она доверяла ему, как ребенок; она знала и была уверена, что с ним она в безопасности. Он был тронут и горд этим, и его до кончиков пальцев согревало то, как озарялось светом ее лицо при его появлении. Лицо Веры так не светлело. Вера никогда не понимала его – за пятнадцать лет не сумела понять так, как эта девушка за полдня. А то, как Вера умерла… нечего было лукавить в своих мыслях: это было продолжением ее жизни – пренебрежение к другим, к тому, что говорили ей для ее же блага, упрямое желание все делать по-своему, например, свешиваться из опасных окон, не прилагать ни малейших усилий, ни малейшей осторожности… Представить только, какой ужас она навлекла на него, незабываемый ужас, не говоря уже о бесконечных тревогах и горе, сознательно игнорируя его предупреждения, его прямые приказы насчет того окна. Уимс искренне считал, что если взглянуть на случившееся беспристрастно, трудно найти пример большего равнодушия к чувствам и желаниям других.
Сидя в церкви во время службы, скрестив руки на груди, поджав губы и хмуро размышляя об этом, он вдруг увидел лицо Люси. Священник шел по проходу перед гробом, направляясь к могиле, а Люси с теткой следовали за ним.
«Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями; как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается…»[2]
Печальный, безысходный голос священника произносил эти прекрасные слова, а свет послеполуденного солнца из западного окна и открытой западной двери освещал его лицо и лица процессии – все черное и белое: черные одежды, белые лица.
Светлее всех прочих было лицо Люси, и, увидев его выражение, Уимс разжал губы, сердце его растаяло, он импульсивно вышел из тени и присоединился к ней, решительно встав с другой стороны во главе процессии, и у могилы стоял рядом с ней; и в тот ужасный миг, когда первую горсть земли бросили на гроб, он, на глазах у всех, взял ее под руку и крепко прижал к себе.
Никого не удивило, что он стоит с ней вот так. Это восприняли как нечто само собой разумеющееся. Очевидно, он приходился родней бедному Джиму. Никого не удивило и то, что Уимс, не отпуская ее, повел домой, вверх по утесу, держа ее под руку, словно он был главным скорбящим, а тетка следовала за ними с кем-то еще.
Он не говорил с ней, не отвлекал ее, отчасти потому, что тропа была очень крутой, а он не привык подниматься по скалам, но также из-за чувства, что они с ней, объединенные горем, понимают друг друга без слов. И когда они первыми – он невольно подумал, словно возвращались со свадьбы – добрались до дома, он твердо велел ей подняться в свою комнату и прилечь, и она послушалась с милой покорностью полного доверия.
– Кто это? – спросил человек, помогавший мисс Энтуистл подняться на утес.
– О, это очень старый друг нашего дорогого Джима, – всхлипнула она – она не переставала всхлипывать с первых слов погребальной службы и теперь не могла остановиться. – Мистер… мистер… Ви… Ви… Уимс…
– Уимс? Не припоминаю, чтобы Джим о нем упоминал.
– О, один из его… его старейших… др… друзей, – захлебнулась бедная мисс Энтуистл, окончательно выйдя из себя.
Уимс, продолжая играть роль главного скорбящего, оказался единственным, кого пригласили провести вечер в осиротевшем доме.
– Неудивительно, – сказала ему за ужином мисс Энтуистл, и голос ее все еще дрожал от слез, – что мой дорогой брат был так предан вам. То, как вы помогали нам и утешали нас, неизмеримо…
И ни Уимс, ни Люси не нашли в себе сил объясниться.
Какая разница? Люси, измученная чувствами, с умом, изнуренным жестокостью последних четырех дней, сидела за столом в изнеможении и лишь думала, что если бы ее отец знал Уимса, то наверняка был бы ему предан. Они не были знакомы; они разминулись – да, всего на три часа; и этот чудесный друг стал первой хорошей новостью, которой она не поделилась с отцом. А Уимс считал: если люди спешат с выводами – пусть будет так. Все равно он не мог начать объяснения посреди трапезы, в присутствии разносящей блюда и подслушивающей горничной.
Но возник неловкий момент, когда мисс Энтуистл в слезах поинтересовалась (она ела мистербланманже – последнее в череде холодных и бледных блюд, которыми повариха, женщина кельтского происхождения с богатым воображением, выразила свое почтение к событию), не назначил ли Джим мистера Уимса опекуном бедняжки Люси.
– Я… Боже, как трудно привыкнуть говорить «я была»… я была единственной родственницей моего дорогого брата. Наша семья такая… наша семья была такой маленькой, и я, конечно, уже немолода. Между мной и Джимом был… был всего год разницы, и в любой момент меня может…
Тут мисс Энтуистл прервалась, рыдая, и опустила ложку.
– …не стать, – закончила она через мгновение, пока двое других сидели молча.
– Когда это случится, – продолжила она чуть позже, немного придя в себя, – бедная Люси останется совсем одна, если только Джим не подумал об этом и не назначил опекуна. Надеюсь и думаю, что это вы, мистер Уимс.
Ни Люси, ни Уимс не ответили. Горничная крутилась рядом, да и в любом случае объяснения, которые следовало дать четыре дня назад, сейчас были неуместны.
Подали мертвенно-белый сыр – видимо, местный, поскольку Уимсу этот сорт был незнаком, – и трапеза завершилась чашками холодного, черного как смоль кофе. Все эти тщательно продуманные выражения сочувствия поварихи не нашли отклика у троих, которые ничего не заметили; по крайней мере, на это она не рассчитывала. Уимса слегка задел холодный кофе. Он терпеливо съел все остальные пресные блюда, но после ужина кофе должны были подавать горячим, а тут он оказался холодным – такое с ним случилось впервые. Он удивился, что, в отличие от него, его спутницы, похоже, ничего не заметили. Но что взять с женщин – всем известно, что они равнодушны к еде; в этом вопросе даже лучшие из них недалеки, а худшие так и просто невыносимы. Стряпня Веры была ужасна; в конце концов, ему пришлось самому заказывать обеды и нанимать поваров.
Он встал из-за стола, чтобы открыть дамам дверь, чувствуя внутренний озноб, про себя отметив, что ощущает себя «грязным» внутри; и, оставшись один с блюдом черных слив и зловещего вида вином в графине (которого он избегал, потому что при прикосновении к графину звенел лед), он как можно незаметнее позвонил в колокольчик и тихо – французское окно в сад было открыто, а в саду были Люси с теткой – спросил горничную, нет ли в доме виски с содовой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Пс., 60:2–3.
2
Книга Иова, 14:1–22.