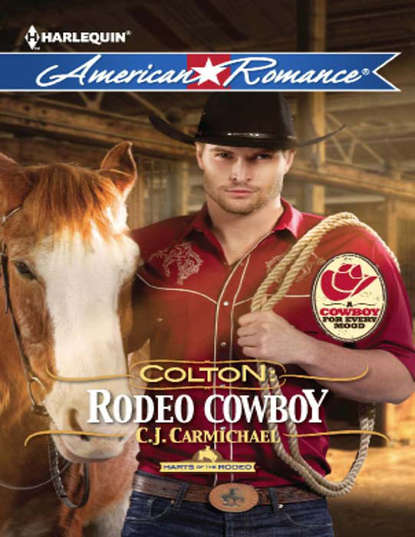Миф. Греческие мифы в пересказе
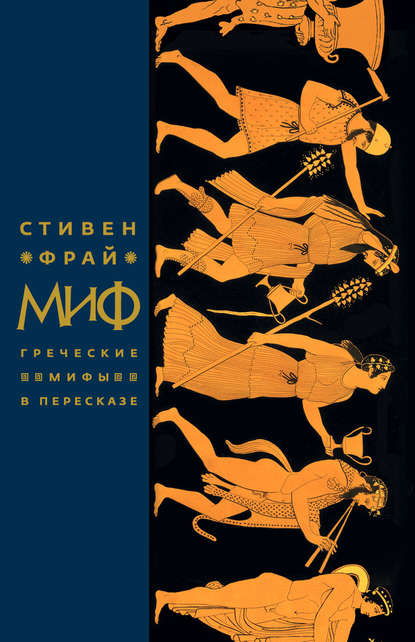
- -
- 100%
- +
– Да ты посмотри на этих! – проговорил Прометей, протягивая Зевсу раздавленные, испорченные статуэтки. – Зелененькая, лиловая и синяя были мои любимые.
– У нас зато остались черная, бурая, желтая, слоновой кости, красноватая и всякие другие. Хватит же, правда?
– Мне этот оттенок кобальтового синегоособенно нравился.
Афина разглядывала уцелевшие фигурки, что блестели в умиравших лучах солнца.
– Ох, Прометей, они безупречны, – проговорила она тихо, но так, что ее голос привлекал больше внимания, чем рев и вопли прочих олимпийцев.
Прометей тут же повеселел. Похвала Афины – драгоценнее всего.
– Ну я и впрямь вложил в них сердце и душу.
– Превосходно, очень тонкая работа, – сказал Зевс. – Сделано великим титаном из глины Геи, слеплено моей царственной слюной, обожжено солнцем, а пробудится к жизни от нежного дыхания моей дочери.
Это Метида, навсегда засевшая у Зевса в голове, подбросила мысль, что именно Афина должна оживить эти творения. Подышать в каждого – буквально вдохнуть в них некоторые свои свойства: мудрость, чутье, сноровку и здравомыслие.Вдохновить.
Имя подобрано
Преклонив колени на берегу реки, Афина осенила теплым сладостным дыханием каждую фигурку. Завершив, встала рядом с Прометеем и отцом – поглядеть, что получилось.
Все происходило довольно медленно.
Поначалу одна из фигурок потемнее дернулась и испустила стон.
На другом конце ряда завозилась желтая, села, тихонько кашлянула.
Через несколько секунд все малютки ожили и задвигались. Всего мгновения спустя они уже сгибали и разгибали конечности, хлопали глазами и пробовали все остальные свои чувства, разглядывали друг друга, нюхали воздух, болтали и вопили. Вскоре они уже вставали и даже делали первые шаткие шаги.
Зевс вцепился в Прометея обеими руками и заплясал.
– Смотри! – орал он. – Смотри! Ну красавцы же! Чудесные, совершенно чудесные!
Афина вскинула палец к губам:
– Тсс! Ты их пугаешь. – Она показала на малюсеньких мужчин, уставившихся вверх со страхом и настороженностью. Самый высокий не дотягивался ей даже до колен.
– Все в порядке, малыши, – сказал Зевс, склонившись и обращаясь к ним тоном, который ему казался умиротворяющим. – Не надо бояться!
Но получившийся исполинский грохот, кажется, встревожил малюток еще больше – они принялись беспокойно размахивать руками и заметались.
– Давайте уменьшимся до их размеров, – предложил Прометей. С этими словами он сжался так, чтобы сделаться всего на фут с небольшим крупнее своих творений. Зевс с Афиной последовали его примеру.
Объятиями, улыбками и нежными речами этих напуганных и растерянных существ постепенно угомонили, и все уже готовы были подружиться. Они сбились в кучку вокруг троих бессмертных, кланяясь и простираясь перед ними.
– Не надо кланяться, – сказал Прометей, касаясь одной фигурки и восхищаясь ощущением от ее кожи и жизнью, которую он чуял внутри этого созданья. Дыхание Афины превратило глину в эту подвижную теплую плоть. Глаза у всех сияли жизнью, энергией и надеждой.
– Минуточку, – вмешался Зевс, – кланяться как разочень надо. Мы – их боги, пусть они об этом не забывают.
– Я им не бог, – сказал Прометей, оглядывая созданное с громадной любовью и гордостью. – Я им друг. – Он опустился на колени, чтобы сделаться ниже их ростом. – Я научу их возделывать землю, молоть пшеницу и рожь, чтобы они смогли печь хлеб. Научу готовить еду и ковать инструменты, и…
– Нет! – внезапно взревел Зевс, и оторопевшие созданья вновь переполошились и заметались. Рев Зевса отозвался в небесах оглушительным грохотом. – Можешь дружить с ними сколько влезет, Прометей, и, не сомневаюсь, Афина и все прочие боги тоже захотят. Но одного им не получить никогда. Огня.
Прометей ошарашенно уставился на своего друга.
– Но… почему никогда?
– С огнем они могут восстать против нас. С огнем они будут считать себя равными нам. Я это чувствую – и знаю. Никогда не получить им огня. Я сказал свое слово. – Долгий раскат грома вдали подтвердил это. – Но, – улыбнулся Зевс, – все остальное на белом свете – их. Пусть странствуют куда пожелают. Пусть рассекают по океанам Посейдона, ищут помощи Деметры, засевая зерно и выращивая пищу, учатся у Гестии домоводству, разбираются, как содержать животных ради молока, шерсти и тягловой силы, пусть усваивают мастерство охоты у Артемиды. Гермес натаскает их в хитрости, Аполлон познакомит с умениями в музыке и науках. Афина объяснит, как быть мудрыми и умиротворенными. А Афродита изложит искусства любви. Будут свободными и счастливыми.
– Как мы их назовем? – спросила Афина.
– Те, что ниже, – сказал Зевс, поразмыслив. –Антропос[105].
Он хлопнул в ладоши, и горстка сделанных вручную людей превратилась в сотню, сотня – в целую толпу, а толпа, распространяясь во все стороны, стала ордой, пока человеческое население, исчислявшееся уже сотнями тысяч, не ринулось обживать все уголки мира.
Вот так возник первый людской род. Гею, Зевса, Аполлона и Афину можно считать родителями его в той же мере, что и Прометея, вылепившего человечество из четырех стихий: Земли (глина Геи), Воды (слюна Зевса), Огня (солнце Аполлона) и Воздуха (дыхание Афины). Они жили и процветали, воплощая все лучшее, что подарили им их творцы. Но чего-то не хватало. Чего-то очень важного.
Золотой век
Альма-матер, благодатная мать-земля, которую сделала плодородной и урожайной Деметра, стала сладостным раем для первых людей. Никаких болезней, нищеты, голода или войн не знали они. Жизнь была идиллией невинности и легких сельских дел. Время счастливого поклонения богам, близости и дружбы с ними, а боги жили средь них в очертаниях и пропорциях простых и не пугающих. Зевс и все остальные боги, титаны и бессмертные с большим удовольствием общались с этими очаровательными как дети гомункулами, которых Прометей слепил из глины.
Возможно, мы лишь вообразили себе те первые дни чудесной простоты и всеобщей доброты, чтобы с этой вершиной райской утонченности сравнивать низкие, извращенные времена, какие наступили следом. Греки, несомненно, верили в то, что Золотой век действительно был. Он навсегда остался в их мышлении и поэзии и одарил их грезой о совершенстве, к которому надо стремиться, видением более отчетливым и плотным, чем наши размытые представления о перволюдях, хрюкавших по пещерам. Платонические идеалы и безупречные формы были, вероятно, интеллектуальным выражением скорбной памяти рода людского.
Естественно, что из всех бессмертных сильнее прочих любил человечество его художник-создатель – Прометей. Он и брат его Эпиметей проводили с людьми больше времени, чем на Олимпе, в компании себе подобных бессмертных.
Прометея расстраивало, что ему позволили вылепить лишь мужчин: он чувствовал, что этой клонированной однополой расе недостает разнообразия – и во взглядах, и в нравах, и в характерах, – а также способности размножаться и создавать новые личности. Его человечество было счастливо, да, но Прометею подобное безопасное, безо всяких испытаний бытие виделось лишенным задора. Чтобы приблизиться к богоподобию, какое заслуживали его создания, человечеству чего-то не хватало. Им нуженогонь. Настоящий, горячий, яростный, мерцающий, пылающий огонь, чтобы они могли оттаивать, плавить, коптить, жарить, кипятить, печь, выделывать и ковать; а еще им нужен был внутренний творческий огонь – божественный огонь, чтобы смогли они думать, воображать, дерзать и делать.
Чем больше Прометей приглядывал за своим творением и жил с ним, тем больше убеждался, что огонь – именно то, что им нужно. И знал, где его добыть.
Стебель фенхеля
Прометей оглядел двойную вершину Олимпа, нависавшую над ним. Высочайший пик, Митикас, достигал почти десяти тысячпусов, до самых облаков. Рядом – на двести-триста футов ниже, но куда более труднодосягаемая скалистая Стефани. На западе темнели вершины Сколио. Прометей знал, что гаснувшие лучи вечернего солнца скроют это восхождение – сложнейшее из всех – от богов, царивших наверху, и потому начал опасный подъем, уверенный, что влезет на вершину незамеченным.
Никогда прежде Прометей Зевса не ослушивался. Ни в чем по-крупному. В играх, забегах, потасовках и соревнованиях за сердца нимф он запросто дразнил и поддевал друга, но никогда не восставал против него впрямую. Без последствий иерархию пантеона не очень-то нарушишь. Зевс – друг сердечный, однако он в первую очередь Зевс.
И все же Прометей не сомневался в своих действиях. Как бы ни любил он Зевса, человечество стало ему дороже. Воодушевление и решимость, какие ощущал он внутри, были сильнее любого страха перед божественным гневом. Совсем не хотелось досаждать другу, но, когда пришлось выбирать, выбора не оказалось.
Прометей одолел отвесную стену Сколио, и тут западные врата за солнечной колесницей Аполлона закрылись, всю гору окутало тьмой. Пригибаясь, Прометей прокрался вокруг иззубренного выступа, венчавшего чашу амфитеатра Мегала Казания. Впереди виднелось Плато муз, оно мерцало пляшущими отблесками света от огней Гефестова горнила примерно в семи сотнях пусов дальше.
По другую сторону Олимпа боги ужинали. Прометей слышал лиру Аполлона, свирель Гермеса, каркающий смех Ареса и рык Артемидиных гончих. Цепляясь за внешние стены кузни, титан подбирался к ее входу. Завернув за выступ, он оторопел: на земле перед огнем распластался навзничь нагой исполин Бронт. Прометей затаился в тени. Он знал, что циклопы помогают Гефесту, но что они спят при кузне – этого он учесть не мог.
У самого входа он разглядел ферулу, ее еще иногда называют сильфией или же исполинским фенхелем (Ferula communis), – не тот же самый овощ, похожий на луковицу, какой мы ныне применяем, чтобы сообщить рыбному блюду приятный анисовый дух, но его близкий родственник. Прометей склонился и выдернул длинный бодрый росток. В стебле нашлась густая, похожая на вату сердцевина. Очистив от листьев, Прометей протянул его через порог, над сонной, бормотавшей тушей Бронта, к огню. Жара, что источало горнило, оказалось достаточно, чтобы конец стебля занялся. Прометей подтянул его обратно, со всей возможной осторожностью – но не смог предотвратить падение искры с шипевшего стебля прямиком Бронту на грудь. Кожа циклопа заскворчала и зашипела, и он проснулся, ревя от боли. Пока Бронт спросонья разглядывал свою грудь, пытаясь понять, откуда взялась эта боль и что она могла означать, Прометей схватил росток и удрал.
Дар огня
Прометей слез с олимпа, зажав росток фенхеля в зубах; сердцевина тлела. Примерно каждые пять минут Прометей вытаскивал стебель изо рта и осторожно раздувал пламя, берег его сияние. Наконец, добравшись до безопасного места в долине, он отправился в людское селение, где они с братом обжились.
Можно было бы возразить, что Прометей наверняка мог научить людей высекать огонь из камней или трением палочек, но следует помнить, что Прометей украл огонь с небес – божественный огонь. Вероятно, он принес людям внутреннюю искру, что само по себе разжигает в человеке любопытство потереть палочки или постукать камни друг о друга.
Когда он показал людям скакавшего, плясавшего и метавшегося демона, они закричали от страха и отпрянули от пламени. Но любопытство вскоре взяло верх над страхом, и они начали радоваться этой волшебной новой игрушке, веществу, явлению – назовите, как желаете. От Прометея они узнали, что огонь не враг им, а могущественный друг, у которого, если его приручить, найдутся тысячи тысяч применений.
Прометей пошел от деревни к деревне и везде показывал, как изготовить инструменты и оружие, как обжигать глиняные горшки, готовить мясо и печь зерновое тесто, и все это вскоре запустило лавину умений, подняв человека над зверями-хищниками, которым нечего было противопоставить копьям и стрелам с металлическими наконечниками.
Довольно скоро Зевсу случилось глянуть с Олимпа, и он увидел точки плясавшего оранжевого света, повсюду испещрявшие пейзаж. Он тут же понял, что произошло. И вызнавать, кто виноват, тоже не понадобилось. Гнев Зевса был стремителен и ужасен. Никогда и никто прежде не видывал подобной всепоглощающей, сокрушительной, апокалиптической ярости. Даже Уран в муках своего увечья не преисполнялся такого мстительного неистовства. Урана сверг сын, к которому отец не питал никакого уважения, а Зевса предал друг, которого он любил сильнее всех остальных. Не придумать предательства ужасней.
Кары
Дар
Гнев Зевса оказался совершенно беспредельным, и все олимпийцы боялись, что Прометея разнесет такая сила, что и атомы его никогда не восстановятся. Возможно, подобная судьба и постигла бы прежде любимого титана, если бы не мудрое и уравновешивающее влияние Метиды у Зевса в голове: она посоветовала месть тоньше и достойнее. Сила божественной ярости нисколько не уменьшилась – она сделалась сфокусированнее, направилась в более отчетливые русла возмездия. Нужно оставить Прометея до поры и обрушить космическую ярость на людей – ничтожных дерзких людишек, творение, которое Зевс так любил, а теперь не питал к нему ничего, кроме обиды и холодного высокомерия.
Целую неделю под присмотром посуровевшей и обеспокоенной Афины Владыка богов сновал взад-вперед перед своим троном и решал, какую расплату лучше всего назначить за присвоение огня, за дерзость подражать олимпийцам. Внутренний голос, казалось, шепчет ему, что однажды, какую бы месть он ни выбрал, человечество устремится ввысь и сделается под стать богам – или, что еще ужасней, перестанет в нихнуждаться и решит, что может их забыть. Никакого преклонения, никаких молитв небесному Олимпу. Перспектива показалась Зевсу слишком богохульной и нелепой, он ее забросил, но одно то, что подобная возмутительная мысль могла закрасться ему в голову, лишь подогрело его бешенство.
Возник ли блистательный замысел у него самого, или у Метиды, или вообще у Афины – неясно, однако, по мнению Зевса, замысел получился хоть куда. Была в нем золотая симметрия, что оказалась близка его очень греческому уму. Ох уж он покажет Прометею – и, небеса свидетели, покажет человечеству.
Перво-наперво он велел Гефесту повторить работу Прометея – вылепить из глины, смоченной слюной Зевса, человеческую фигурку. Но на сей раз это будет молоденькаяженщина. Взяв в модели свою жену Афродиту, ее мать Геру, тетушку Деметру и сестру свою Афину, Гефест любовно вылепил девушку чудесной красоты, в которую Афродита вдохнула жизнь и все искусства любви.
Все остальные боги снабдили новое созданье всем необходимым. Афина обучила ее домоводству, вышивке и прядению и облачила в великолепную серебряную хламиду. Харитам поручили украсить творение бусами, брошами и браслетами из лучшего жемчуга, агата, яшмы и халцедона. Оры вплели цветы ей в волосы, и стала она такой красавицей, что у всех, кто видел ее, спирало дух. Гера наделила ее величием и самообладанием. Гермес поставил ей речь и натаскал в искусствах обмана, пытливости и хитрости. Он же дал ей имя. Поскольку все боги одарили ее замечательными талантами и умениями, назвать ее полагалось Всеодаренной, что по-гречески – ПАНДОРА[106].
Гефест соорудил еще один подарок этому совершенству, а поднес его лично Зевс. Это была емкость, наполненная… тайнами.
Вы, наверное, думаете, что под емкостью я имею в виду ящик или, может, некий сундук, но на самом деле это был глазурованный и запечатанный глиняный кувшин, известный в греческих землях какпифос[107].
– Ну вот, моя дорогая, – сказал Зевс. – Эта штука – просто для красоты. Не смей открывать. Поняла?
Пандора качнула прелестной головкой.
– Никогда, – выдохнула она совершенно искренне. – Никогда!
– Вот умница. Это тебе свадебный подарок. Зарой его поглубже под брачным ложем, но не распечатывай. Ни за что. Там лежит… ну, неважно. Ничего для тебя интересного, совсем.
Гермес взял Пандору за руку и переместил ее к маленькой каменной хижине, где обитали Прометей с братом Эпиметеем, в самой середке процветавшего людского городка.
Братья
Прометей знал, что Зевс придумает какую-нибудь кару за его ослушание, и предупредил брата Эпиметея, что, пока сам он в отлучке и учит только что возникшие деревни и города применению огня, пусть брат не принимает с Олимпа никаких даров, в каком бы обличье те ни предстали.
Эпиметей, который всегда сперва делал, а потом размышлял о последствиях, заверил более дальновидного брата в своем послушании.
Однако ничто не могло подготовить его к подарку Зевса.
Как-то раз поутру Эпиметей услышал стук в дверь и открыл ее радостному улыбчивому посланнику богов.
– Нам можно войти? – Гермес проворно отступил в сторону, и за ним с глиняным кувшином в руках явилось прелестнейшее создание из всех, каких только Эпиметею доводилось встречать. Афродита была хороша, само собой, но слишком уж далека и эфирна, чтобы рассматривать ее не как предмет поклонения и отстраненного благоговения. То же и с Деметрой, Артемидой, Афиной, Гестией и Герой. Их красота была царственна и недосягаема. Миловидность нимф, ореад и океанид, пусть и вполне чарующая, представлялась поверхностной и незрелой рядом с румяной сладостью видения, что взирало на Эпиметея так робко, с такой готовностью, так восхитительно. – Можно? – повторил Гермес.
Эпиметей сглотнул, икнул и отступил назад, распахивая дверь.
– Познакомься со своей будущей женой, – проговорил Гермес. – Ее зовут Пандора.
Раскрыл – много крыл
Эпиметей и пандора вскоре поженились. Эпиметею чудилось, что Прометей – который сейчас был далеко, учил искусству отливки бронзы народ Варанаси – Пандору не одобрит. Быстрая свадьба до возвращения брата показалась хорошей мыслью.
Эпиметей с Пандорой очень любили друг друга. Спору нет. Краса и ученость Пандоры каждый день несли ему радость, а он, в свою очередь, своей непринужденной способностью жить мгновением и никогда не тревожиться о будущем дарил ей чувство, что жизнь – легкое и милое приключение.
Но одна мелочь не давала ей покоя, одна крошечная мушка зудела над ней, малюсенький червячок ел изнутри.
Тот кувшин.
Она держала его на полке в их спальне. Когда Эпиметей спросил о нем, она рассмеялась.
– Да просто дурацкая штуковина, Гефест сделал мне на память об Олимпе. Никакой ценности.
– Но красивый, – промолвил Эпиметей и дальше думать о нем не стал.
Как-то раз вечером, пока ее муж метал диск с друзьями, Пандора подошла к кувшину и провела пальцем по кромке запечатанной крышки. Почему Зевс вообщезаикнулся о том, что внутри ничего интересного? Он бы не стал ничего такого говорить, если б действительно не было. Она прокрутила это рассуждение в голове.
Если даешь другу пустой кувшин, и мысли-то не возникнетговорить, что кувшин пуст. Друг заглянет внутрь однажды и сам увидит. Тогда с чего Зевс не счел за труд повторить, что ничего интересного в кувшине не содержится? Объяснение может быть только одно. Внутри – нечто очень интересное. Что-то ценное или мощное. Что-то либо чарующее, либо зачарованное.
Но нет – она же поклялась никогда не открывать кувшин. «Слово есть слово», – сказала она себе и тут же почувствовала себя очень добродетельной. Она считала, что ее долг – противостоять наваждению кувшина, который теперь действительно чуть ли не в голос звал ее, совершенно завораживающе. Сплошное расстройство – держать столь манящий предмет у себя в спальне, где он будет дразнить и искушать ее всякое утро и всякий вечер.
Искушение значительно ослабевает, если убрать его с глаз. Пандора отправилась в садик на заднем дворе и – рядом с солнечными часами, которые соседи подарили им на свадьбу, – выкопала яму и зарыла кувшин поглубже. Прихлопнула землю сверху и сдвинула тяжелые солнечные часы вместе с плитой-постаментом поверх тайника. Вот!
Всю следующую неделю она была весела, игрива и счастлива, насколько вообще способен быть человек. Эпиметей влюбился в нее еще больше и позвал друзей пировать – и слушать песню, которую он сочинил в ее честь. Радостный и удачный вышел праздник. Последний во всем Золотом веке.
В ту ночь – возможно, слегка захмелев от похвал, что расточались ей столь вольно, – Пандора не могла заснуть. В окно спальни она видела садик, залитый лунным светом. Гномон часов сиял, словно серебряное острие, и вновь Пандоре почудилось, что слышит она песню кувшина.
Эпиметей счастливо спал рядом. Лунные лучи плясали по саду. Не в силах более терпеть, Пандора выскочила из супружеской постели и выбежала в сад, отодвинула часы и раскопала землю, не успев даже сказать себе, что поступает нехорошо.
Вытащила кувшин из тайника и повернула крышку. Восковая печать подалась, Пандора сорвала ее. Произошел стремительный всплеск, яростный трепет крыл, а в ушах у нее зашумело, забурлило.
О! Великолепные летучие созданья!
Но нет… не великолепные вовсе. Пандора вскричала от боли и страха, почуяв на шее кожистое касание, а следом острый и ужасный укол, словно чье-то жало или клык уязвил ее. Крылатые силуэты всё летели и летели из горла кувшина – громадная туча их, они лопотали, вопили и выли ей в уши. Сквозь вившийся туман этих мерзких тварей она увидела лицо мужа – он вышел посмотреть, что происходит. Лицо это побелело от ужаса и страха. Громко закричав, Пандора собрала всю отвагу и силу и закрыла кувшин наглухо.
У садовой стены в облике волка Зевс наблюдал, улыбаясь жутчайше и злобнейше: как стая саранчи, вопившие, вывшие твари драли воздух и вились над садом громадной воронкой, а затем ринулись вверх по-над городком, над всей округой – и над всем миром, проникая чумой всюду, где обитал человек.
И чем же были они, эти силуэты? Все они – потомки-отродье темных злых детищ Никты и Эреба: рождены от Апаты – Обмана, Гераса – Старости, Ойзиса – Горя, Мома – Хулы, Кер – Насильственной смерти; отпрыски Аты – Помрачения и Эриды – Раздора. Вот их имена: ПÓНОС – Тяжкий труд, ЛИМОС – Голод, АЛГЕЯ – Боль, ДИСНОМИЯ – Безвластие, ПСЕВДЕЯ – Ложь, НЕЙКЕЯ – Ссора, АМФИЛОГИ – Споры, МАХИ – Войны, ГИСМИНЫ – Сражения, АНДРОКТАСИИ и ФОНЫ – Резня и Убийства.
Появились Болезнь, Насилие, Предательство, Горе и Нужда. И никогда не покинут они Землю.
А вот чего Пандора не знала: когда впопыхах закрыла крышку на кувшине, она заточила внутри навек одну последнюю дочь Никты. Одно последнее крошечное созданье осталось втуне бить крылышками внутри кувшина. И звали его ЭЛПИДА – Надежда[108].
Сундук, воды и Геины кости
Вот так стремительно и кошмарно завершился Золотой век. Смерть, болезни, бедность, преступность, голод и войны навеки стали неизбежной частью удела человеческого.
Но Серебряный век, как стали именовать ту эпоху, не свелся к одному лишь отчаянию. Он отличался от нашего тем, что боги, полубоги и чудовища навещали нас, людей, скрещивались с нами и полностью участвовали в нашей жизни. С огнем в руках, а теперь и с появлением женщин человечество смогло размножиться, наполнилось смыслом понятие «семья», и кое-какие беды из кувшина Пандоры удалось уравновесить. Зевс глядел и видел все это. Голос Метиды у него в голове, казалось, шептал, что никак не остановить человечество, если однажды оно решит встать на ноги – в других смыслах, кроме очевидного. Зевса это глубоко беспокоило.
Тем временем люди, как положено, благоговели перед богами и применяли свою новую близость к огню, чтобы слать Олимпу подношения – в знак преданности и послушания.
Пандора, первая женщина, родила от Эпиметея несколько детей, в том числе дочку ПИРРУ. Прометей тоже зачал ребенка – сына ДЕВКАЛИОНА, возможно – от собственной матери Климены или, если верить другим источникам, от океаниды ГЕСИОНЫ.
И так размножился род мужчин и женщин.
Прометей, чей дар предусмотрительности[109] никогда его не покидал, отчетливо осознавал, что гнев Зевса еще предстоит утишить. Он воспитал Девкалиона готовым к любым божественным воздаяниям. Когда мальчик подрос, Прометей научил его работать с деревом. Вместе они соорудили громадный сундук.
Братья-титаны радовались вовсю, когда Пирра и Девкалион влюбились друг в друга и поженились. Прометей и Эпиметей могли теперь считать себя родоначальниками новой независимой человеческой династии. Но угроза от Громовержца, супившегося на своем олимпийском троне, так никуда и не делась.
Шло время, человечество продолжало плодиться и расселяться – по мнению Зевса, скорее чума, чем милые игрушки, какие он когда-то любил. Повод повторно наказать человечество дал один из первых людских правителей, ЛИКАОН, владыка Аркадии – сын Пеласга, от которого происходит название пеласгийцев. Этот Пеласг – одна из тех фигурок, что слепил Прометей и одухотворила Афина. По нашим современным понятиям, Пеласг был эллином, со смугловатой кожей, темными волосами и глазами. Позднее греки стали считать тот народ, его язык и обычаи варварскими, и, как мы убедимся, этому первому племени не суждено было долго населять Средиземноморье.