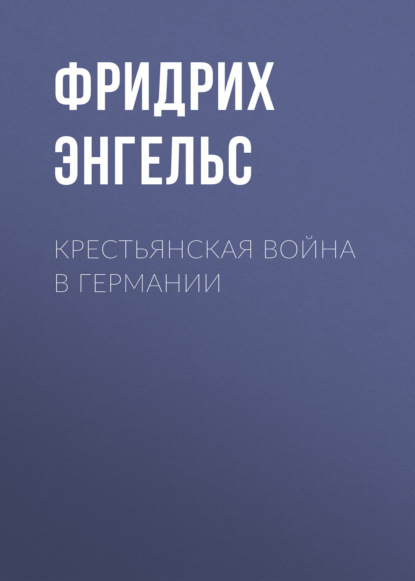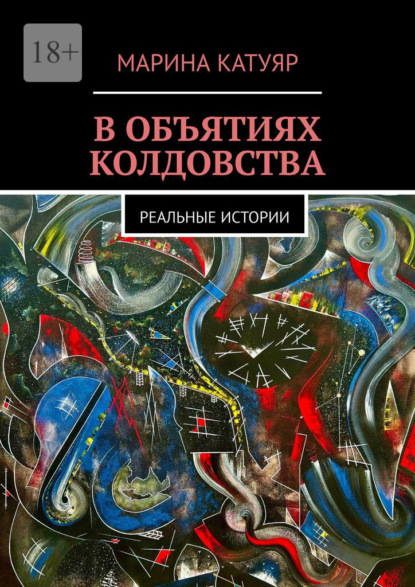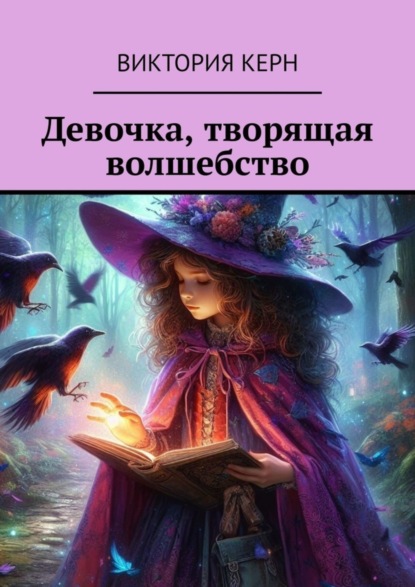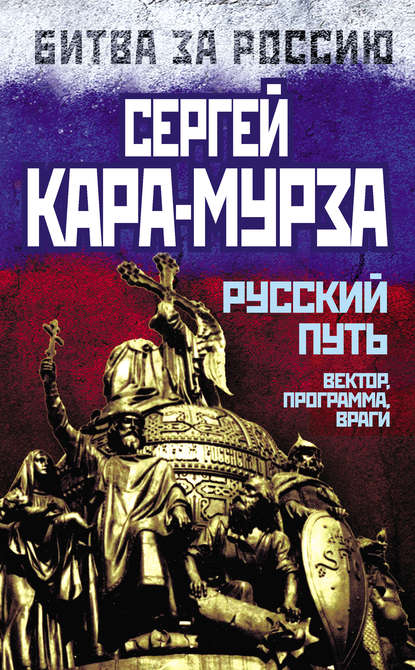- -
- 100%
- +

ВВЕДЕНИE.
B предисловии ко второму изданию этой работы Фридрих Энгельс сообщает, когда и при каких обстоятельствах он писал ее. Она возникла во время белого террора 1850 года и с своей стороны свидетельствует как о глубокой проницательности, так и о стойком мужестве, с которыми Маркс и Энгельс относились к ударам контрреволюции.
В то время как немецкие и вообще континентальные эмигранты, стекавшиеся в Лондон, наполовину опьянялись бессильными надеждами и наполовину терзались бессильным гневом, Маркс и Энгельс стремились уяснению борьбы и нужд эпохи; это уяснение было с самого начала их совместной деятельности их сильнейшим побуждением и высшей целью. В критическом изучении революционных и контрреволюционных сил они впервые подвергли испытанию всю остроту оружия, которое они выковали себе в виде исторического материализма, и дали первые доказательства своей несравненной способности неразрывно спаивать практическую пропаганду с научным исследованием.
В начале 1850 года они еще не пришли к убеждению, что революционная волна, поднятая парижскими февральскими днями 1848 года, неудержимо отхлынула. В это время они возобновили издание «Новой Рейнской Газеты», как политико-экономического ежемесячника, в котором они старались уяснить себе путь, проделанный революцией: именно, Маркс подверг критическому изучению события во Франции 1848-1850 гг., а Энгельс – немецкую кампанию 1849 г. в связи с имперской конституцией. Обе работы вновь напечатаны – работа Маркса – в отдельном издании, ещё под редакцией и со введением Энгельса, под заглавием «Классовая борьба во Франции 1848-1850 г.г.» (Берлин 1895, Издание Vorwärts), и работа Энгельса в изданном мною литературном наследии Маркса, Энгельса и Лассаля (том третий, Штутгаpт 1902, изд. Dietz Nachfolger).
Как ни были значительны эти работы и как высоко они ни были оценены сведущими лицами тотчас после своего опубликования, все же новая публицистическая затея обоих друзей родилась не под счастливой звездой. Правда, они сами не пророчили долговечности своему предприятию, но они рассчитывали на совершенно иную смерть; 19 декабря 1849 года Маркс полагал, что после выхода в свет трех или четырех номеров журнала вспыхнет мировой пожар. Нo вместо этого погасли последние искры революции.
К этому присоединились некоторые случайные препятствия; болезнь Маркса мешала своевременному выходу номеров журнала; типограф в Гамбурге также оказался неудачно выбранным.
В мае 1850 года г-жа Маркс писала своему другу и другу ее мужа Вейдемейеру: «Единственное, чего мой муж мог требовать от тех, кто питал к нему некоторое сочувствие, некоторое уважение, некоторую привязанность, – было проявление большей деловой энергии, большего участия к его журналу. Я с гордостью и решимостью заявляю это. Ha это немногое он имел право. Я полагаю, что никто не был обманут при этом. Все это угнетает меня. Но мой муж думает иначе. Он еще никогда, даже в самые ужасные минуты, не терял уверенности в будущем и даже самого жизнерадостного настроения». Страдальческий призыв благородной женщины был понятен, но даже самые верные друзья её мужа были вынуждены признать свое бессилие.
Лассаль, старавшийся на Рейне привлечь подписчиков, писал в Лондон, что приходится подобно хомяку рыскать по всем норам, чтобы найти демократа, и сам Вейдемейер, пропагандировавший из Франкфурта журнал среди южно-германских партийных товарищей, собрал до июня 1850 года всего около 54 гульденов.
Но Маркc и Энгельс в самом деле не теряли веры в будущее. После того как сколько-нибудь регулярный выход журнала прекратился уже на четвертом номере в апреле 1850 года, – они выпустили в ноябре 1850 года еще один двойной номер, в котором не жаловались с грустью или гневом на то, что революция погасла, а научно исследовали, почему она должна была погаснуть. В политико-экономическом обзоре, который равным образом перепечатан в третьем томе изданного мною наследия, – относящемся к периоду с мая до октября 1850 года, они пришли к следующему выводу: «При этом всеобщем благосостоянии, в котором, производительные силы буржуазного общества достигают столь цветущего развития, какое вообще возможно в пределах буржуазных отношений, не может быть речи о подлинной революции… Новая революция возможна лишь в результате нового кризиса. Но она также несомненна, как и этот последний». В этом последнем двойном номере журнала появилась также и работа Фридриха Энгельса о крестьянской войне в Германии, имевшая целью воскресить перед германским народом «в периоде временного утомления, проявляющегося почти повсюду после двухлетней борьбы, неуклюжие, но мощные и кряжистые образы» эпох революционной борьбы шестнадцатого столетия. Тщетно было бы искать в этой работе каких-либо следов уныния; далекая от всяких фанфаронад, она все же проникнута непобедимым и неомраченным духом борьбы.
Энгельс не предпринял для своей работы какого-либо самостоятельного изучения источников, как он и сам указывает в одном примечание первого издания, a также в предисловии ко второму изданию. Во всём фактическом изложении он опирается на циммермановскую историю крестьянской войны, которая еще и в наши дни представляет собою лучшее изложение фактов, хотя она не только местами страдает неполнотой, – как отзывался о ней Энгельс в 1870 году, – но и устарела во многих отношениях; буржуазные историки с течением времени все более теряли интерес к изображению революционных движений. Исключительно исторический метод придает этой работе Энгельса ee самостоятельное значение. Энгельс расчленяет и связывает исторический материал, собранный Циммерманом, согласно руководящим точкам зрения исторического материализма и проверяет правильность своего понимания при помощи параллели между германскими революциями 1525 и 1848 годов, взвешивая их сходства и различия с тем деловым спокойствием исследователя, которое никогда не изменяло ни ему, ни Марксу – как в дни побед, таки в дни поражений.
Таким образом, это произведение в момент своего появления представляло собою несомненный прогресс в историческом познании эпохи реформации, картина которой до того времени колебалась в неясных очертаниях, окутываемая туманом религиозной идеологии. Когда Энгельс раскрыл экономические побудительные силы эпохи в качестве рычагов, определявших в последней инстанции её развитие, то этот туман рассеялся, и открылась пестрая картина сталкивающихся друг с другом интересов, оживленная новыми производительными силами, которые потрясали отжившие формы производства. Гуттены, Лютеры, Мюнцеры, поставленные вне партийных симпатий и антипатий, фигурировали уже не в качестве людей, будто бы делающих историю, а как живые индивидуальные образы, до последней складки на лбу и каждой морщины в лице являвшиеся теперь вождями классов, боровшихся друг с другом не на жизнь, а на смерть в эпоху этого мирового переворота. Первоначально работа Энгельса потонула в водовороте контрреволюции, и еще по истечении почти десяти лет после ee появления даже такой человек, как Лассаль, мог спорить с Марксом и Энгельсом о тех исторических вопросах, которые были основательно разобраны в ней. Однако по истечению двадцати лет Энгельс решил издать ее вторично, признавая, что к его прискорбию эта работа все еще не утратила злободневности.
* * *
Это случилось в 1870 году, накануне франко-прусской войны. Те, кто победил германскую мартовскую революцию, были принуждены ходом неумолимого экономического развития принять наследство именно этой революции; то, что не удалось революции снизу благодаря трусости немецкой буржуазии, – национальное объединение Германии – было начато теперь революцией сверху. Но подобные революции всегда дают в результате только заплаты и обрывки (ein Flick-und Stückwerk), и потому в немецком рабочем движении, возродившемся в 1863 году, возник ожесточенный спор – не о революции сверху как таковой, а равно и не о полнейшей недостаточности ее результатов, но о том, следует ли признать ее прежде всего как неизбежно совершившийся факт и продолжать борьбу на созданной ею почве, или же надлежит покончить с нею путем революции снизу, которая затем создаст национальное объединение.
В августе 1869 года это привело к полному расколу молодой рабочей партии в Германии на две фракции – лассальянцев и эйзенахцев, из коих лассальянцы принимали тогдашний северо-германский союз как исторический факт, нисколько не нарушая этим своих социалистических принципов, тогда как эйзенахцы, точно так же строго соблюдая свои социалистические принципы, стремились сохранить тесную связь с тогдашней народной партией (Volkspartei); эта последняя, впрочем, кроме королевства Саксонии, имела в северной Германии лишь немногих разрозненных сторонников, но была сильнее представлена в южногерманских государствах, которые, как известно, пользовались в 1866-1870 годах сомнительным преимуществом изображать собою самостоятельные европейские державы. Однако, эта связь вскоре привела к очень тягостным последствиям для эйзенахской фракции. Эта фракция просуществовала ровно месяц, когда состоялся в Базеле четвертый конгресс Интернационала, на которой за обществом было признано право объявить землю общественной собственностью.
По этому поводу доблестная народная партия вышла из себя и исступлённо вопила против «деспотической банды» Интернационала, обвиняя его в пособничестве Бонапарту и Бисмарку. Таким образом, эйзенахской фракции оставалось отказаться либо от этих буржуазных друзей, либо от своих социалистических принципов. Всякое уклонение было тем менее возможно, что лассальянцы немедленно высказались зa базельские постановления, и с принятой ими ранее точки зрения они имели полное основание поступить так. тем не менее, если не партийный комитет эйзенахцев, пребывавший тогда в Брауншвейге и намеревавшийся опубликовать официальный циркуляр, признававший базельские постановления, то Либкнехт, в качестве редактора выходившего в Лейпциге партийного органа Volksstaat», пытался прибегнуть к такому исходу; он нe хотел (как он писал в Брауншвейг) прежде-временно вступать в конфликт с народной партией и считал достаточным, если партийный орган только не будет отвергать базельские постановления. Однако, поскольку подобная половинчатость вообще вовсе не была в характере Либкнехта, он осуществлял ее особенно неудачно. Теперь лассальянцы смеялись над тем, что эйзенахпы не отваживались признать основное положение научного коммунизма, не решались причислить себя к «школе Карла Маркса», тогда как прямодушные представители народной партии настаивали на открытом отказе от базельских постановлений. Конечно, Либкнехт вскоре признал свою ошибку и уже в январе 1870 года вполне правильно охарактеризовал народную партию как совершенно случайную по своому составу партию, способную только горланить и отнюдь не могущую представлять опасности для северо-германского союза.
Под свежим впечатпeниeм этих событий Энгeльc написал свое предисловие к второму изданию этого труда. Эйзенахцы, в противоположность лассальянцам, хотели быть подлинными марксистами, и в самом деле в тогдашних внутренних партийных спорах Mapкc и Энгельс стояли на их стороне. По желанию Либкнехта Энгельс разрешил «Volksstaat'y» перепечатать свою работу о крестьянской войне в Германии и затем выпустить ее отдельным изданием; но тем нe менее в его предисловии высказываются по адресу эйзенахцев столь же, если не более жестокие истины, как и по адресу лассальянцев. Оставим открытым вопрос, не было ли направлено против некоторых вождей лассальянцев заявление Энгельса, что всякий вождь рабочих, опирающийся на люмпен-пролетариат, тех самым уже является предателем рабочего движения; в то время подобные упреки часто выдвигались в пылу борьбы, хотя и без основания. Во всяком случае Энгельс недвусмысленно защищал одностороннюю точку зрения эйзенахцев, когда он полагал, что хотя, политические события 1866 года и затрагивали рабочих в некоторых пунктах (которые либо были притянуты за волосы, как, например, потерянная невинность прусской короны, после того как она божьей милостью проглотила три другие короны, либо подчеркивались в первую очередь именно лассальянцами, как, например, завоевание всеобщего избирательного права), – однако 1866 год «почти ничего» не изменил в общественных отношениях Германии. Для того, чтобы установить имеющееся в этом суждении преувеличение, достаточно напомнить позднейшее мнение Энгельса, согласно которому в 1866-1870 годах буржуазные реформы в коих нуждалась тогдашняя Германия, хотя и были запоздалыми и несовершенными по сравнению с уровнем западноевропейских культурных народов, но всё же были проведены «быстро и в общем либерально».
Но уже при этом случае Энгельс заявил, что национал-либералы и народная партия являются лишь противоположными полюсами одной и той же ограниченности, что было во всяком случае явным намёком по адресу эйзенахцев. Необычайная меткость этого пророчества не требует уже никаких доказательств в наши дни, когда жалкие остатки славной народной партии стонут под ярмом соглашательской политики в приятном обществе национал-либералов. Не менее явственным кивком по адресу эйзенахцев были и заключительные фразы предисловия Энгельса. Он отмечает там, что базельские постановления по вопросу об общественном владении землею были в высшей степени своевременны для Германии, где бюрократическое, феодальное, реакционное или буржуазное правительство станет невозможным с того дня, когда массы сельского пролетариата пойму свои собственные интересы. И опять-таки нет нужны в каких-либо подробных доказательствах, до какой степени своевременны ещё и в наши дни эти рассуждения по этому вопросу.
Однако, одно попутное замечание в предисловии Энгельса требует краткого пояснения: Энгельс говорит о том, что поразительно плохая стратегия пруссаков при Садовой одержала победу ещё более поразительно плохой стратегией австрийцев. Здесь будто проявляется, по крайней мере, поскольку дело идёт о прусской стратегии, некрасивая тенденция изобразить её в чёрном свете (Schwarzmalerei). Однако, достаточно установить окружающую обстановку, вызвавшую это суждение, чтобы признать его заслуживающим полного оправдания. Энгельс уже ранее смеялся над «элегантностью» побед, мнимо одержаннных пруссаками в войне с Данией, что, разумеется, было приписано зависти лондонской «шайки поджигателей»; между тем, теперь даже в издании прусского генерального штаба, посвящённого войне 1864 года, можно прочесть, как нелепо был проведён этот поход пруссаками. Старик Врангель руководил им, как бездарный фронтовой педант (Gamaschenkopf).
Точно так же и старик Вильгельм самолично испортил теперь самый план похода 1866 года своей достославной политикой, которую разъярённый Бисмарк охарактеризовал следующими словами: едва успеешь пришпорить старую лошадь перед рвом, как она уже делает скачок назад. И об этом можно теперь почерпнуть всё желательные сведения из официальной литературы о войне 1866 года. Мольтке вышел тогда из затруднительного положения смелым решением наверстать потерянное время: именно, не сосредотачивая прусские войска где-то в глубине страны, он повёл их в концентрическое наступление и наконец двумя большими колоннами из Лаузица и Саксонии – в Богемию. Однако, этот путь мог легко привести к полному разгрому, который без сомнения, и наступил бы, если б старая стратегия старика Бенедикта не была ещё значительно хуже, чем стратегия Вильгельма.
Если Энгельс мог назвать свою работу своевременной ещё через двадцать лет после её первой публикации, то мы вправе не отрицать за ней это – в известном смысле, правда, прискорбное – качество через сорок лет после её второго издания. Самого Энгельса в последнее десятилетие его жизни занимало мысль переиздать свой труд в расширенном и углублённом виде, и только перегруженность другими работами помешала ему осуществить своё намерение. 31 декабря 1884 года он писал Зорге: «я совершенно перерабатываю свою крестьянскую войну. Она будет исходной точкой всей германской истории. Это большая работа. Но подготовительные работы почти-что закончены».
Затем 13 июля 1893 года он писал мне, советуя расширить обзор фридриховской эпохи, сделанный мною в моей книге о Лессинге, до обзора всей истории Пруссии: «Ведь придется же сделать это, прежде чем развалится старая колымага, если уничтожение монархическо-патриотической легенды и не является прямо необходимой предпосылкой устранения монархии, прикрывающей классовое господство (так как чисто буржуазная республика в Германии учреждена раньше, чем она возникла), то всё же оно составляет один из сильнейших рычагов для этого устранения. К тому же при этом у Вас будет больше места и поводов для того, чтобы изобразить местную историю Пруссии, как часть общегерманского убожества. В этом пункте я местами несколько расхожусь с Вашими воззрениями, a именно в понимании предпосылок раздробления и неудачи германской буржуазной революции шестнадцатого столетия. Если мне удастся заново обработать историческое введение к моей крестьянской войне, что – как я надеюсь и желаю – будет выполнено в течение будущей зимы, то я разовью там соответствующие пункты. Не то, чтобы я считал неправильными выдвигаемые Вами положения, но я ставлю рядом с ними другие и группирую несколько иначе. – При изучении германской истории, которая ведь представляет собою одно сплошное убожество, я всегда находил, что надлежащий масштаб дают только сопоставление с соответствующими французскими эпохами, ибо там происходит прямо противоположное тому, что происходит у нас. Там – создание национального государства из разрозненных составных частей феодального государства, как раз в то время, когда у нас наступил полный упадок. Там – редкая объективная логика во всем течении процесса, а у нас все более безнадежное распадение. Там английский завоеватель в средние века, вмешиваясь в пользу провансальской национальности против северно-французской, представляет собой иностранное вмешательство; войны с англичанами являются, так сказать, тридцатилетней войной, которая, однако завершается изгнанием вторгшихся чужеземцев и подчинением юга северу. Затем начинается борьба центральной власти с опирающимся на зарубежные владения бургундским вассалом, который играет роль прусского Бранденбурга; здесь также побеждает центральная власть, завершающая созидание национального государства. И как раз в этот момент y нас окончательно рушится национальное государство (поскольку можно назвать национальным государством «немецкую королевскую власть» в проделах священной римской империи), и начинается в широком масштабе расхищение немецких областей. Это сопоставление в высшей степени постыдно, но поэтому тем более поучительно для немца; и с тех пор, как наши рабочие поставили Германию в авангарде исторического развития, мы можем с более легким сердцем примириться с позорным прошлым. Особенно характерно для немецкого развития ещё то, что оба государства-соперника, в конце концов разделившие между собою всю Германию, отнюдь не являются чисто германскими, а представляют собою колонии на завоеванной славянской территории, Австрия – баварскую, а Пруссия – саксонскую колонию; они захватили власть в Германии только благодарят тому, что опирались на зарубежные, не германские владения: Австрия – на Венгрию (не говоря о Богемии), Бранденбург – на Пруссию. На наиболее угрожаемой западной границе не произошло ничего подобного, на северной границе датчанам было поручено защищать Германию от датчан, а на юге защита была так мало необходима, что охранителям границ, швейцарцам, даже самим удалось отделиться от Германии».
И еще за несколько месяцев до своей смерти, 21 мая 1895 года, Энгельс писал Каутскому, разбирая его книгу о предшественниках социализма: «Я очень многому научился из Вашей книги, она является необходимой вводной работой к моей новой обработке Крестьянской войны. Основных ошибок, мне кажется, две: 1) Весьма недостаточное исследование развития и роли тех деклассированных элементов, стоявших совершенно вне феодальной лестницы, почти париев, которые неизбежно должны были появиться при возникновении городов и которые составляют низший бесправный слой населения всякого средневекового города, оторванный от общины, от феодальной зависимости и от цеховой корпорации. Это трудная задача, но здесьосновная база, ибо постепенно с распадением феодальных связей, этот слой становится зародышем пролетариата (Vorproletariat), который в 1789 году совершил революцию в парижских предместьях; он поглотил всех изгоев феодального и цехового общества. Ты говоришь о пролетариях, термин хромает, – и включаешь ткачей, значение которых ты изображаешь вполне правильно – но ты можешь причислить их к моему «пролетариату» лишь с того времени, когда появились не цеховые, деклассированные работники-ткачи, и лишь поскольку таковые существовали. Здесь необходимо дополнить многое. – 2) Ты не вполне уяснил положение на мировом рынке, поскольку о нём может быть речь, международное экономическоеположенпе Германии в конце пятнадцатого столетия. Исключительно это положение объясняет, почему в Германии шестнадцатого столетия могло иметь известный успех буржуазно-плебейское движение в религиозной форме, разбитое в Англии, Нидерландах и Богемии: это был успех религиозной оболочки, тогда как победа буржуазного содержания была представлена следующему столетию и странам возникшего тем временем нового направления мирового рынка: Голландии и Англии. Это богатая тема, которую я надеюсь разработать in extenso в связи с крестьянской войной: только бы добраться до нее!»
Этому не было суждено осуществиться, O чем мы тем более должны сожалеть в виду плодотворности и многочисленности точек зрения, избранных Энгельсом для этой новой обработки своего старого труда.
* * *
Однако мы не вправе пo этой причине оценивать низко то, что дает нам эта работа. Переиздать ее и сделать доступной для рабочих есть не только дань уважения к автору, заслуги которого в рабочем движении столь велики. Этот труд еще и в наши дни является мощным орудием пропаганды; он способен как никакой другой оживить в сознании современного пролетария германскую революцию в ее коренной исторической сущности, и не только расширить его исторические знания, но и способствовать правильному пониманию тех задач, которые должна разрешить современная борьба за освобождение.
В некоторых частях труд Энгельса превзойден Каутским в его книгах о Томасе Moрe и о предшественниках социализма со времён Реформации; многое, что у Энгельса только намечено, изложено y Каутского с большей тонкостью и богатством деталей, и тот, кто под влиянием предлагаемого труда возьмется за упомянутые книги Каутского – будет вознагражден вдвойне. Но этот труд, впервые обрисовавший общие, основные черты немецкой крестьянской революции, остается непревзойденным, как введение в основательное изучение замечательной, – а для всякого немецкого рабочего трижды замечательной, – эпохи.
Штеглиц-Берлин, в марте 1908 г.
Φ. Mepинг.
Перевела Л. Круковская.
Предисловие к 1-му русскому изданию
В своей «Программе работников» Ф. Лассаль говорит: «Итак, крестьянское движение, несмотря на свой внешний резко-революционный характер, в основе своей было совершеннореакционным: оно, не сознавая этого, безусловно придерживалось не нового революционного принципа, а, скорее, старого принципа существующего порядка – принципа периода, как раз близившегося тогда уже к концу; и именно потому, что оно считало себя революционным, фактически было реакционным, оно потерпело крушение». Этот взгляд, который Лассаль подробно развивает и в своей драме «Франц фон-Зикинген», пользуется у нас до сих пор ещё широким распространением, что не мешает ему, однако, быть глубоко ошибочным. В своё время Маркс и Энгельс в письмах к Лассалю подвергли обстоятельной критике этот взгляд, всецело проникнутый старо-гегельянским духом и продиктованный исторической конструкцией Гегеля, по которому исторический ход вещей объясняется с точки зрения развития идеологических принципов. К сожалению, эти письма до сих пор ещё не увидели света, и сущность критики авторов материалистического понимания истории была ясна лишь из ответных писем Лассаля. В предлагаемой русскому читателю «Крестьянской войне» Энгельса, на основании всестороннего и глубокого анализа общественных отношений Германии конца XV и начала XVI веков, доказывается, что крестьянское движение того времени было революционным и, по существу. Энгельс проводит параллель между революцией 1848 года и войной 1525 года и показывает, что первая является во многом лишь зрелым развитием тех начал, которые в зачаточном состоянии лежали в основе последней. Крестьянство и там и здесь выступает против феодальных порядков и за утверждение буржуазного строя. Для нас этот труд Энгельса имеет не только исторический интерес. Переживаемый нами момент во многом сходен с таковым 1848 года в Германии. Наше крестьянство, поскольку оно выступает за уничтожение сословных привилегий и остатков крепостничества, является en masse прогрессивным классом. Такой характер и носит его теперешнее движение.