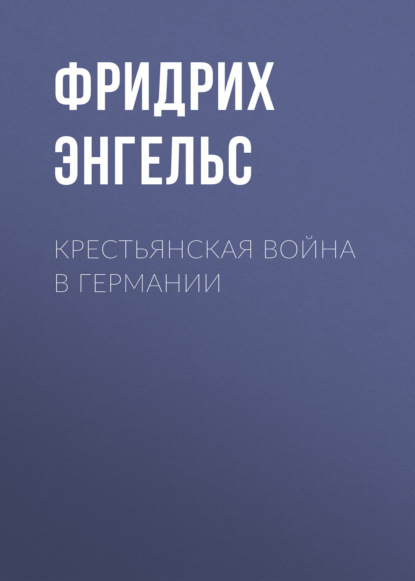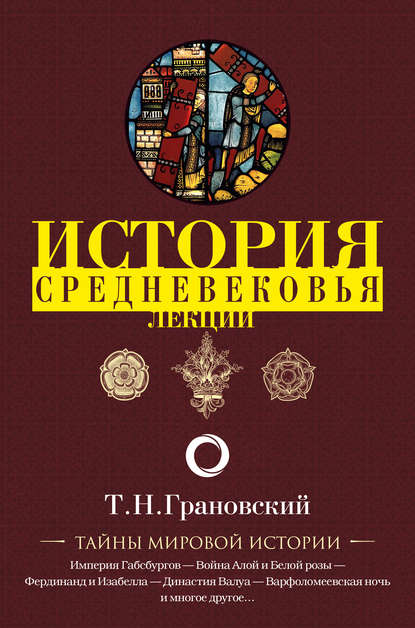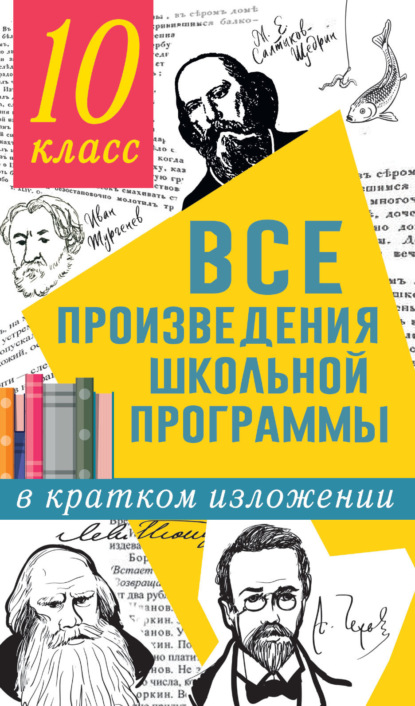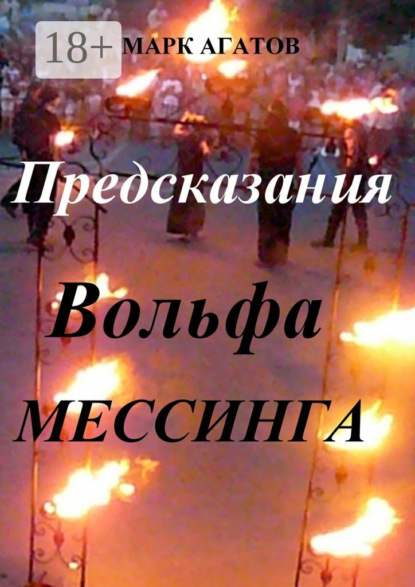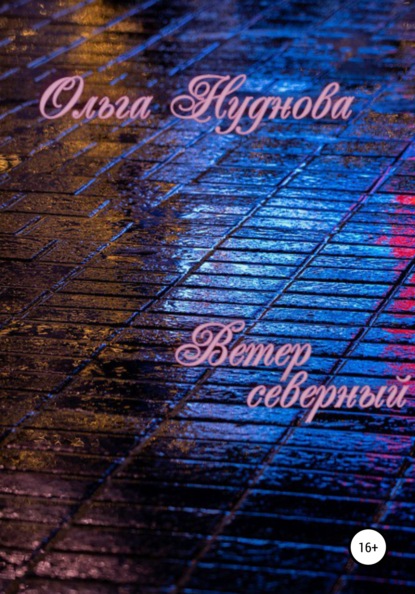- -
- 100%
- +
Настоящий перевод сделан с последнего, третьего издания, появившегося в Лейпциге в 1875 году. Энгельс предполагал издать этот труд в новой обработке, но, к сожалению, смерть помешала ему в этом. Мы считаем, поэтому, нелишним привести здесь письмо, написанное им незадолго перед смертью Каутскому, в котором, между прочим, намечаются некоторые пункты, подлежавшие разработке. Энгельс даёт в письме отзыв о первом полутоме «Истории социализма», составленном Каутским: «…Средневековые секты изложены у тебя уже лучше и притом crescendo. Лучше всего – табориты, Мюнцер и анабаптисты. Очень много правильных экономических обоснований политических явлений, но рядом с этим и общие места, доказывающие пробелы в исследовании. Я многому научился из книги; она – незаменимая предварительная работа для моей новой обработки «Крестьянской войны». Твоя книга, по моему мнению, страдает двумя главными недостатками:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.