Крестьянская война в Германии
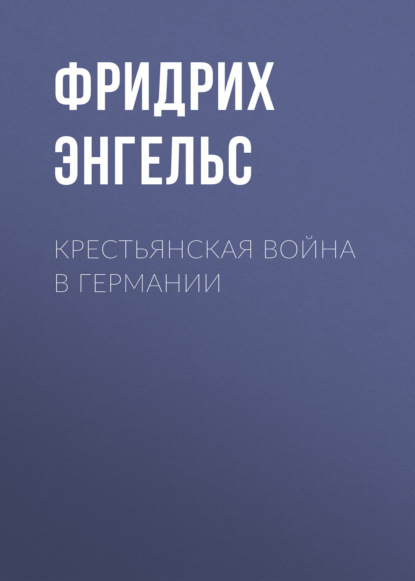
- -
- 100%
- +
За военным положением последовали процессы государственного давления, преследования журналистов и партийных ораторов, высылки и конфискации. Всё это лишь укрепляло рабочее движение: вместо того чтобы смирить рабочий класс, это движение только усиливалось. Рабочие показали своё интеллектуальное и моральное превосходство в конфликтах с капиталистами, ведя борьбу с самообладанием и уверенностью в правоте своих действий. Успехи январских выборов представляют собой важное явление в истории рабочего движения. Немецкие рабочие обладают двумя преимуществами: склонностью к теоретическому мышлению и позицией, благодаря которой рабочее движение возникло позже, чем в Англии или Франции, что позволило избежать прежних ошибок.
У немецких рабочих есть два существенных преимущества перед рабочими других стран Европы. Во-первых, они принадлежат к народу Европы, наиболее склонному и способному к теоретическому мышлению; они сохранили теоретическое чутьё, которое у так называемых «образованных» совершенно пропало. Без своей предшественницы – немецкой философии, особенно философии Гегеля, немецкий научный социализм – единственный научный социализм, существовавший когда-либо – никогда бы не осуществился. Без теоретических склонностей у рабочих этот научный социализм никогда не вошёл бы в их плоть и кровь, как это произошло в действительности.
И какое неоспоримое преимущество, показывает, с одной стороны, равнодушие ко всевозможным теориям, являющееся одной из главных причин того, что английское рабочее движение, несмотря на превосходную организацию отдельных профессий, так медленно движется вперёд, а с другой стороны – тот сумбур, та путаница, которую вызвал прудонизм в своей первоначальной форме у французов и бельгийцев и, искажённый Бакуниным в более карикатурную форму, у испанцев и итальянцев.
Второе преимущество заключается в том, что, по времени, рабочее движение у немцев зародилось значительно позже. Немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Овена, трёх мужей, принадлежавших, при всей фантастичности и утопизме их учений, к наиболее выдающимся умам всех времён, гениально предвидевших и предвосхитивших множество вещей, правильность которых мы теперь доказываем научно.
Подобно этому немецкое практическое рабочее движение никогда не должно забывать того, что оно развилось на плечах французского и английского движения и, пользуясь их дорогим опытом, в состоянии теперь избегать прошлых ошибок, в то время как большая часть неизбежных ошибок уже была совершена. Не будь раньше английских тред-юнионов и политической борьбы рабочих во Франции, не будь гигантского опыта, данного Парижской Коммуной, где были применены эти уроки в настоящее время?
Должно отдать справедливость немецким рабочим: они с поразительным пониманием доли использовали преимущества своего положения. Впервые с тех пор, как существует рабочее движение, борьба ведётся так планомерно, в такой связи и цельности с трёх сторон – теоретической, политической и практически-экономической (противодействие капиталистам). В этом концентрическом, так сказать, методе борьбы – залог силы и непобедимости немецкого рабочего движения.
С одной стороны, благодаря выгодности своего положения, а с другой – вследствие своеобразных особенностей английского рабочего движения и насильственного подавления французского движения, немецкие рабочие в данный момент являются авангардом борющегося пролетариата. Сколько времени они останутся на этом почётном посту, предсказать трудно. Но пока они его будут занимать, они, можно надеяться, будут выполнять свои обязанности как следует. Для этой цели необходимо удвоить свои усилия во всех областях борьбы. Обязанностью вожаков будет всё более и более выяснять себе все теоретические вопросы, всё более и более освобождаться от влияния устаревших, принадлежащих старому миросозерцанию, фраз и никогда не забывать того, что с социализмом, с тех пор как он стал наукой, необходимо обращаться как с наукой, т.е. его необходимо изучать.
Это всё более и более доступное и понятное учение необходимо с усиленным рвением распространять среди рабочей массы и всё крепче сковывать организацию партии, а также профессиональных союзов. Если голоса, поданные на январских выборах в пользу социалистов, уже представляют немалую армию, то всё же они далеко не составляют ещё большинство немецкого рабочего класса; и как ни удовлетворительны наши успехи по пропаганде среди сельского населения, всё же именно здесь остаётся сделать ещё очень много.
Поэтому мы не должны уставать в борьбе, мы должны отвоевывать у врага город за городом, избирательный округ за округом. Но, что всего важнее, это сохранить местный интернациональный дух движения, не дающий развиться никакому шовинизму и с живейшей радостью приветствующий всякий новый шаг в пролетарском движении, из какой бы нации он ни исходил.
Если немецкие рабочие будут поступать именно таким образом, то, если они не будут авангардом движения – вовсе не в интересах этого движения, чтобы рабочие одной какой-нибудь нации шли во главе его – они всё же будут занимать почётное место в его боевом движении; и они окажутся на своём посту в полном вооружении, когда, вследствие неожиданных тяжёлых испытаний или каких-либо чрезвычайных событий, им придётся обнаружить сугубую смелость, решимость и действенную силу.
Лондон 1 июля 1874 г. Фридрих Энгельс.
Крестьянская война в Германии
Есть революционные традиции и у немецкого народа. Было время, когда и в Германии появлялись люди, которых можно поставить рядом с лучшими мужами революций других стран, когда немецкий народ обнаружил стойкость и энергию, которые у нации, более централизованной могли бы дать самые блестящие результаты, когда немецкие крестьяне и плебеи носились с идеями и планами, не раз приводившими в содрогание их потомков.
В виду временного затишья, наступившего почти везде после двух лет борьбы, будет своевременно напомнить немецкому народу о великой крестьянской войне, вновь вызвать в его памяти неуклюжие, но крепкие и стойкие её фигуры. Прошло с тех пор три столетия, и многое изменилось; тем не менее крестьянская война далеко не так отдалена от современной нам борьбы, а противники, с которыми приходится бороться, остались большей частью те же. Классы и классовые группы, предавшие нас в 1848–1849 годах, мы можем найти в качестве предателей, хотя и на более низкой ступени развития, уже и в 1525 году. И если дикий вандализм Крестьянской войны проявлялся в движениях последних лет лишь местами – в Оденвальде, Шварцвальде и Силезии, – то это во всяком случае не преимущество современного народного восстания.
Положение дел в Германии в начале XVI столетия
Рассмотрим сначала в кратких чертах положение дел в Германии в начале XVI столетия.
В течение XIV и XV столетий немецкая промышленность переживала значительный подъём. Феодальная, сельская, местная промышленность вытеснялась цеховым, ремесленным производством городов, работавших для отдалённых округов и даже далеких рынков. Изготовление грубой шерстяной ткани и полотна становилось постоянной, широко распространённой отраслью промышленности; в Аугсбурге уже изготавливались даже более тонкие шерстяные и льняные ткани, а также шёлк. Наряду с ткацким делом особенно развивалась и та примыкающая к искусству промышленность, которая находила свою пищу в роскоши как духовных, так и светских людей позднего средневековья: выделка золотых и серебряных изделий, работа скульпторов, резчиков по дереву и меди, оружейных мастеров, резчиков медалей, токарей и т. д. Значительно содействовал развитию ремёсел целый ряд более или менее важных открытий, среди которых важнейшими были изобретение пороха1 и книгопечатание.
Рядом с промышленностью развивалась и торговля. Ганзейский союз, благодаря своей столетней монополии на море, окончательно освободил всю северную Германию от средневекового варварства; и если он уже в конце XV столетия, вследствие конкуренции англичан и голландцев, стал быстро приходить в упадок, то, несмотря на открытие Васко-де-Гама, главный торговый путь из Индии к северу всё ещё шёл через Германию, и Аугсбург оставался крупным складочным местом для итальянского шёлка, индийских пряностей и всех продуктов Леванта.
Верхнегерманские города, и среди них в особенности Аугсбург и Нюрнберг, были центрами больших богатств и роскоши. Значительно увеличилась также добыча сырья. Немецкие рудокопы были в XV столетии самыми лучшими в мире; даже на земледелие расцвет городов оказал такое влияние, что оно вышло из своего примитивного средневекового состояния. Обширные участки невозделанной земли были превращены в хорошие пашни, стали разводить красильные травы и другие ввозные растения, тщательная культура которых в общем оказала благоприятное действие и на всё земледелие.
Но этот подъём национального производства Германии всё же отставал от того же подъёма в других странах. Земледелие стояло гораздо ниже английского и нидерландского, промышленность – ниже итальянской, фламандской и английской, а в морской торговле немцев стали всё более и более вытеснять англичане и особенно голландцы. Население всё ещё оставалось очень редким. Цивилизация существовала в Германии лишь спорадически, группируясь около отдельных центров промышленности и торговли; интересы этих центров, имея очень редкие точки соприкосновения, далеко не совпадали.
На юге существовали совершенно другие торговые связи и имелись совершенно иные рынки сбыта, чем на севере; восток и запад почти вовсе не соприкасались. Ни один город не мог стать промышленным и коммерческим центром всей страны, каковым был уже, например, в Англии Лондон. Всё внутреннее сообщение ограничивалось почти исключительно береговым и речным судоходством и несколькими большими торговыми дорогами: от Аугсбурга и Нюрнберга через Кёльн в Голландию и через Эрфурт на восток. Дальше от рек и торговых дорог лежало множество мелких городов, которые, находясь вне крупных торговых отношений, продолжали жить в условиях позднего средневековья, мало вывозили продуктов и мало потребляли иногородних товаров.
Что касается сельского населения, то только дворянство приходило в соприкосновение с более широкими кругами и обнаруживало новые потребности. Крестьянская же масса никогда не выходила за пределы местных сношений и потому не видела ничего далее местного горизонта.
В то время как в Англии и Франции расцвет торговли и промышленности привёл к сцеплению интересов всей страны и тем самым к политической централизации, в Германии он повёл только к группировке интересов по провинциям вокруг чисто местных центров и, следовательно, к политическому дроблению – дроблению, которое вскоре после того приняло вполне установившиеся формы благодаря выключению Германии из мировой торговли. По мере того как феодальное государство распадалось, разрывалась связь между отдельными частями империи вообще; крупнейшие имперские ленные владетели превращались в почти независимых князей-правителей; имперские города – с одной стороны, и рыцари – с другой, заключали союзы то друг против друга, то против князей или императора. Имперское правительство, пошатнувшееся в своём положении, беспомощно колебалось между различными элементами, составлявшими государство, всё более и более теряя при этом авторитет. Попытка его централизовать государство в духе Людовика XI, несмотря на все интриги и насилия, не пошла дальше сохранения австрийских наследственных земель.
Если в этой сумятице, в этих бесчисленных перекрещивающихся конфликтах кто-нибудь в конце концов что-нибудь выиграл и должен был выиграть, то это были представители централизации в самом расщеплении – представители местной и провинциальной централизации, князья, наряду с которыми сам император всё более и более становился равным им владетелем.
В этих условиях положение классов, сохранившихся из эпохи средневековья, существенно изменилось, и рядом со старыми классами образовались новые.
Из высшего дворянства выделились князья. Они были почти уже независимы от императора и обладали большинством прерогатив верховной власти. Они самостоятельно вели войны и заключали мир, содержали постоянное войско, созывали ландтаги, назначали налоги. Значительная часть низшего дворянства и городов была уже подчинена их власти, и они не переставали употреблять все усилия для того, чтобы подчинить себе и остальные вольные города, и баронства.
По отношению ко всем этим городам они выступали как централизаторы, а по отношению к имперскому правительству устанавливали децентрализацию. В своих владениях они уже поступали очень произвольно. Собрания сословий они созывали большей частью только в тех случаях, если не могли иначе выйти из затруднительного положения. Они вводили налоги и собирали деньги, когда им хотелось; право сословий на утверждение налогов признавалось редко и ещё реже осуществлялось. Если же оно и признавалось, то и тогда князь обыкновенно добивался нужного большинства с помощью двух сословий, свободных от обложения, но принимавших участие в пользовании налогами, – рыцарства и прелатов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

