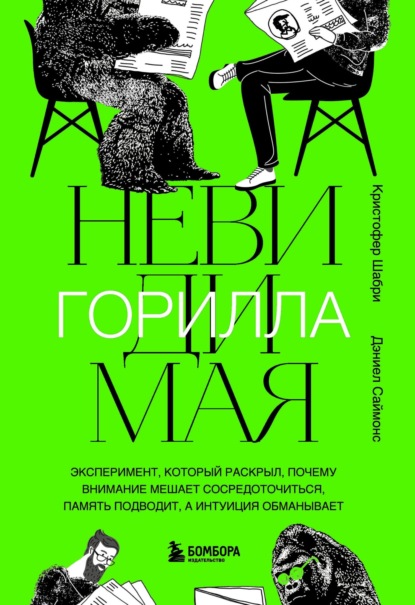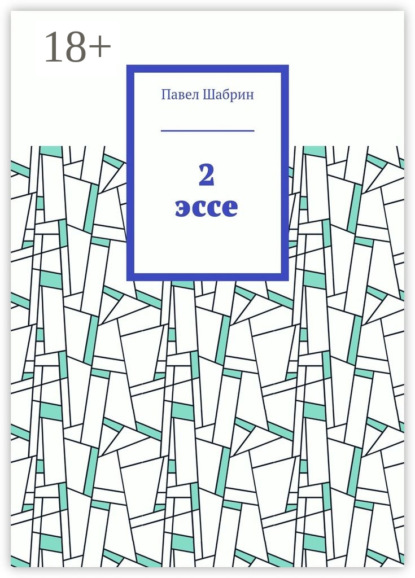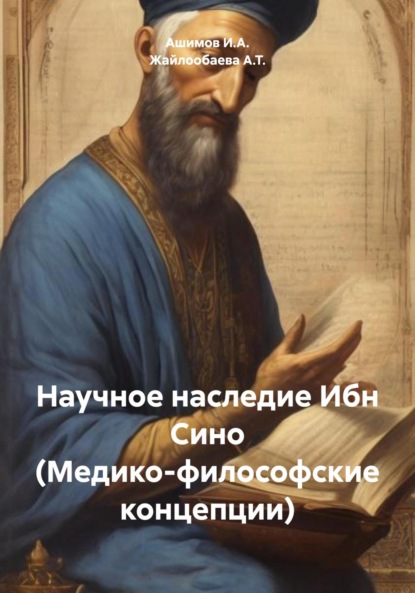Сердце камня. Легенда о СибИрии
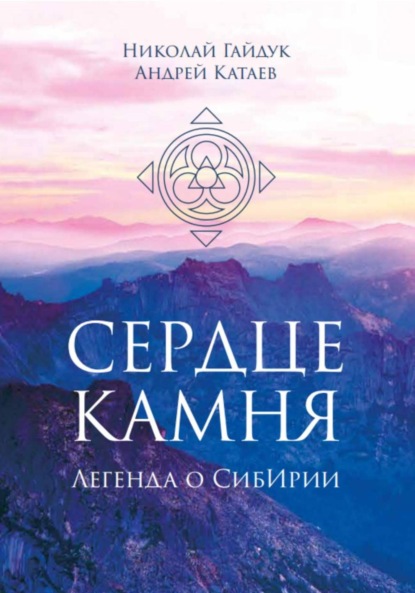
- -
- 100%
- +
«Куда это я? И зачем?»
Он подошёл и прижался к берёзе, показавшейся невероятно белой в призрачном сиянии этой странной ночи.
Опустившись на корточки, Радомирка бережно потрогал, погладил цветок – в ладошку капнула роса, и он услышал тонкий голосок цветка:
– Не плачь!
– Кто? Я? – Он удивился. – А я подумал, это твоя роса.
Цветок покачал головёнкой.
– Это твоя слеза. Не плачь. Слезами горю не поможешь.
Понемногу успокаиваясь, мальчик сырыми глазами смотрел на далёкие звёзды, которые, кажется, тоже расплакались – кругами расплывались по небу.
Затем он опять наклонился над незнакомым цветком, напоминающим звёздочку, заострёнными лучами-лепестками белеющую во мгле.
– Значит, правду говорят, – вспомнил Радомирка, – не делай добра, не получишь зла.
– Век злодея невелик: злой человек и смолоду старик, – сказал цветок. – Нужно делать добро, а иначе мы все пропадём. Нужно делать добро и не ждать благодарности, вот как надо жить. Я, например, тут расту и цвету не для того, чтобы кто-то увидел меня и сказал – ах какой молодец, как чудесно расцвел. Я цвету, потому что не могу не цвести и не радовать. Так устроено сердце моё. И ты пришёл на эту землю, в этот мир, чтобы радовать и не ждать за это похвалы.
Они ещё немного поговорили по душам.
Мальчик оглянулся в сторону посёлка.
– Эх, люди, люди! И чего они злые такие?
– Несчастные они, – подсказал цветок. – Не все, но многие. А злятся они оттого, что завидуют.
– Кому? Чему завидуют?
– Ну, мало ли. Знаешь, как говорят: сочувствие даётся даром, а зависть надо заслужить. Ты вот, например, необыкновенный человек. Я с пригорка давненько за тобой наблюдаю.
– И ты необычный. Я раньше такого цветка не встречал. Значит, и тебе завидуют?
– И мне, к сожалению. Раньше тут мы с братьями и сёстрами гуляли гурьбой на полянах, а теперь-то нас мало осталось. Думаю, что скоро нас не будет. Для нас уже распахнуты двери «Красной книги», а скоро и «Чёрная книга» откроется.
– А что это за книги?
– Это самые грустные, самые горькие книги на нашей Земле. Туда попадает всё то, что исчезает или исчезло. Вот и мы под угрозой. Изводят под корень.
– Неужели от зависти?
– Кто-то от зависти, кто-то от глупости. А кто-то любя. И такие бывают. Кто-нибудь полюбит и сорвёт в букетик. А то ещё хуже случается: сорвут, понюхают, похвалят и вскоре выбросят. – Цветок зевнул и потихоньку стал закрывать свои глазёнки с длинными ресницами нежных лепестков. – Извини, братишка, мне спать пора.
– А мне идти пора, там потеряли…
Отойдя от берега, Радомирка услышал встревоженный голос отца:
– Сынок! Ты куда запропастился? Мы обыскались!
Отец одет был наспех, будто торопился на пожар: серая майка выглядывала из-под тёмной штормовки, всклокоченные волосы разметались на голове, приклеились к потному лбу, где от напряжения туго вздулась вена.
2
Дома долго не спалось: мальчик смотрел на звёзды, светлячками роившиеся в голубовато-светлом квадрате окна. Ворочался, томился, размышлял: «Интересно, а есть ли где-нибудь на свете такое место, где никто никому не завидует, где живут только добрые люди? Крёстный мне говорил про одно какое-то волшебное местечко на Земле. Называлось оно… Как же называлось?»
Стараясь не скрипеть пружинами кровати, он поднялся, на цыпочках прошёл на кухню – лунный свет берестою лежал у печи и около стола.
Напившись воды, Радомирка посидел за столом у окна, посмотрел на далёкую приветливо мигающую звёздочку и опять озадачился: «Как же называлось то райское местечко на Земле?»
И вдруг он вскрикнул, всплеснув руками:
– Ирия!
Пустая металлическая кружка, задетая рукой, кувырком покатилась по полу и загремела, как пустая бочка, – так ему почудилось в полночной тишине.
Разбуженная мать вошла, поправила растрёпанные волосы:
– Сынок, чего шумишь?
Глаза у него полыхали восторгом:
– Я вспомнил, мамка! Вспомнил!
– И что ты вспомнил?
– Ирия! – Мальчик широко, блаженно улыбался, показывая пальцем за окно. – Ирия, мама! Вон куда я уеду, когда подрасту! Там хорошо…
Мать обняла его, погладила по голове:
– Хорошо, сынок, там, где нас нет. Время позднее, пошли. Папке рано вставать на работу, а мы тут с тобою колготимся.
Она уложила его, одеялом укутала. Закрывая глаза, Радомирка продолжал растягивать улыбку. А Татьяна, мамка, та как раз наоборот – плакать готова.
«Господи! Что это с ним? Надо ехать в город, врачам показывать…»
3
Оставшись один, Радомирка опять засмотрелся на звёзды в оконном квадрате – смотрел, как звездочёт, собравшийся пересчитать небесные огни. Порой звездочёт улыбался чему-то, а порою вздыхал. Потом неохотно прилёг на подушку, пахнущую луговыми травами, с боку на бок вертелся, будто хлебные крошки на простыне не давали покоя.
«Для того чтоб заснуть, надо не звёзды считать – слонов надо считать», – вспомнил он папкин совет.
И вот они пошли, слоны – живая гора за горой. Громоздкие, степенные, важные и величавые – слоны шагали так, точно тащили на спинах сосуды с какой-то священной водой, которую боялись расплескать. Эти слоны шагали и шагали по горячим африканским пескам, которым ни конца, ни края не предвиделось. И солнце припекало – невмоготу. И сильный знойный африканский ветер под названием хамсин дул без остановки, как из духовки.
Затем откуда-то явился караванщик, погоняющий караван слонов. Он всю дорогу, оказывается, сидел на переднем слоне, на спине у которого укреплено специальное кресло, ковром накрытое.
Караванщик, лицом похожий почему-то на Славинского, спросил:
– Чего ты не спишь, Радомирка?
– Думаю. Мечтаю.
– И о чём же твоя дума? Мечта твоя.
– А ты, караванщик, можешь секреты хранить? Никому не расскажешь?
– Нет. Клянусь вот этими слонами.
– Хорошо. Я мечтаю о том, чтобы… чтобы нам вернуть те золотые времена, когда на Земле была сказка.
– Мечтать не вредно, спи. – Караванщик дружески похлопал по плечу.
И Радомирка вздрогнул от этого похлопыванья.
Он задремал всего лишь на несколько секунд, а картина приснилась такая – будто слоны целый день шли по горячей пустыне.
В комнате медленно стало темнеть – облака сгущались за окном. И Радомирка в темноте внезапно заприметил нечто невероятное.
На карте, висевшей в комнате, старой карте Сибири, проступили, мерцая, три золотистых крапинки, образующие равносторонний треугольник.
Мальчик тихонько поднялся, хотел посмотреть, что там такое. Но золотые крапинки, мигая, растворились в темноте, будто ушли куда-то в глубину старой карты Сибири.
Глава девятая. Сначала было весело
1
Рано или поздно в жизни людей случаются события, которые можно считать судьбоносными. Идёт судьба навстречу и что-то нам несёт. Иногда – хорошее, иногда – не очень. А иногда случается такое, о чём в народе говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Нечто подобное в судьбе Радомира случилось, когда ему исполнилось девять лет.
Алексей, отец, за эти годы получивший повышение на работе да и вообще заматеревший, сединами слегка присыпанный, стал Алексеем Лукьяновичем – многие теперь так навеличивали.
Но характер не изменился: Причастин оставался азартным рыбаком, трясущимся над поплавком и едва не плачущим, когда сорвётся рыбина. А срывается всегда – самая большущая.
В конце июня, когда погодка раззолотилась, Алексей Лукьянович опять засобирался на рыбалку – впереди улыбались выходные деньки.
К нему, человеку компанейскому, общительному, друзья и товарищи напросились – один, второй. В итоге сколотилась целая компания – в основном сослуживцы, геологи. Многие взяли с собой ребятишек.
Душа Радомирки – может, куда сильней, чем у других – тянулась к родной природе: к небесам, горам и рекам.
Обрадовавшись предстоящему путешествию, он проворно взялся помогать отцу: в лодку перетаскивал всё, что под силу.
Пыхтел этот работничек, потел и знать не знал, что в доме в эти минуты родители из-за него чуть не поссорились: поедет Радомирка или нет.
2
Татьяна всегда спокойно относилась к тому, что сын вместе с отцом проводит время то на рыбалке, то на охоте. А как иначе? Мальчишка должен познавать мужскую жизнь, прежде всего на примере отца – это нормально, только так и можно воспитать самостоятельный характер, который в дальнейшем поможет человеку твёрдо стоять на земле, смело смотреть в глаза и трудностям, и опасностям. Всё это Татьяна прекрасно понимала, но…
Бабье сердце – вещун, неспроста эта присказка веками бытует в народе. Тревога, ничем не объяснимая тревога в то утро уколола сердце матери.
– Сынок, – заговорила она, когда Радомирка от лодки вернулся в избу, – ты бы остался.
Рано проявляя свой характер, парнишка набычился.
– Зачем? Нет, я поеду. А чо мне тут с тобой? Кашу варить?
– Останься, миленький. Там гнуса полно, комаров, будут кровушку пить. А тут мы с тобой…
Нежный голос матери точно пеленал его по рукам и ногам. Мальчик выжидательно, растерянно посмотрел на отца.
– Мы давно с ним никуда не ездили, пора проветриться, – заступился Алексей Лукьянович. – Вон Серёга Добрынин, тот пацана своего за собой по тайге таскает с малых лет, и в результате Антошка самостоятельно избу срубил в тайге. А сам-то он – чуть больше топора.
– И пускай себе рубит, рубака! – не унималась Татьяна, поправляя русую волну волос, в которых будто поблёскивали золотистые нити. – Куда ты ребёнка возьмёшь? Там целый табор, того и гляди, чтобы лодка не опрокинулась.
– У нас три лодки, мать. Ты что? Всем места хватит.
– А я говорю, пусть останется! – Татьяна прибавила голос.
– Тю! Да что это с тобой? – удивился Причастин.
– Ничего. Ты всю жизнь пропадаешь на этой рыбалке и сына тянешь туда. А я сиди, переживай, что там да как…
Причастин едва не вспылил: такая, дескать, бабья доля у тебя. Но тут же понял – надо заходить с другого боку.
Он обнял жену, погладил тёплую косу и тихонечко взялся миндальничать:
– Мы же едем не на прогулку. Пропитание будем добывать. Мужское дело, древнее. А ты у нас эта, как её?.. Берегиня. Хранительница очага.
– Пропитания вон в огороде полно. Там сколько уже без прополки? Тебе всё некогда, а я за всем не поспеваю.
Разводя руками, Алексей Лукьянович сказал:
– Увы, сынок. Наверно, ты останешься. Надо в огороде мамке помогать. Твой дед и прадед пахали землю, и ты, наверно, будешь…
Парнишка заартачился:
– Не хочу пахать. Поеду с вами.
Алексей Лукьянович, стараясь быть серьёзным, торжествовал в душе: «А характер-то мой! Не сломаешь!»
– Ладно, мамка, не волнуйся. Наш золотой запас будет в ценности и сохранности. Да, сынок?
Обрадованный парнишка едва ли не бегом – впереди отца – спустился к берегу. Лебяжье отражение белых облаков скользило у самого борта моторки.
Мальчик ладошкой зачерпнул из речки, будто из облака. Напился, наблюдая за малявками – рыбьей мелюзгой, снующей неподалёку. Вода в родной реке казалась сладковатой, вкуснее такой не найти.
Зашабуршала галька – отец к реке спускался, болотниками так давил каменья, что между ними порой возникала жёлтая искра.
Татьяна следом вышла.
– Когда вас поджидать-то?
Причастин оттолкнулся шестом – наконечник, железом окованный, глухо звякнул под водой.
– Завтра к вечеру, – пообещал он, – всё будет в ажуре, не волнуйся.
3
Дерево дереву рознь, и далеко не всякое пригодно для изготовления лодки. Осина, берёза, ольха не годятся – впитывают влагу и скоро загнивают. На сибирских просторах для лодки лучше всего подходят ель, сосна и лиственница.
Радомирка это узнал от отца. Несколько раз он уже ходил с отцом на этой длинной лодке, добротно изготовленной из еловой древесины. Он любил её, будто живую, – восьмиметровую, крепкую, густо пропахшую рыбой и чёрно-сизым варом, кое-где лупоглазо распухшим от многолетнего солнцепёка. И лодка любила его – парнишка это чувствовал.
В лодке у него излюбленное место – на носу.
Устраиваясь поудобнее, Радомирка наткнулся ногами на якорь – железяка бывалая, битая и перебитая о донные каменья, заляпанная красновато-бурыми пятнами ржавчины.
Улыбаясь, мальчик погладил смолистый борт и негромко начал разговаривать с лодкой:
– Соскучилась? А я так соскучился. Теперь мы с тобой далеко поплывём. Будем искать одну хорошую страну. Называется – Ирия.
Мотор «Москва» завёлся, выбрасывая хлопья голубоватого дыма. Лодка задрожала, разворачиваясь против течения, напряглась, тяжелея. Но горячая сила мотора подстегнула из-за кормы – лодка, набирая ход, горделиво вздёрнула деревянный «клюв», точно взлететь собиралась над просторами Теи, густо засыпанной солнечными искрами, которые иглисто и задорно подскакивали над водой.
И замелькали картины вдоль берега – одна другой краше и притягательней.
Вот зимородок – сказочная птица. Хотя все взрослые и говорят, что это простой речной рыбак с длиннющим клювом-удилищем. Но Радомирка твёрдо верит – зимородок прилетел сюда из сказки. Но ведь сказками-то сыт не будешь, вот и сидит зимородок на ветке в заветерье у воды, караулит рыбёшку.
Отец прибавил газу, и лодка ещё сильней зашумела, под носом распустила белые пушистые усы. Встречный ветер стал прохладней и напористей.
В такие минуты Радомирка любил подняться и подставить ветру всего себя, подставить и вообразить, что нет моторки – это он сам стремительно летит, руками-крыльями играючи касается воды, осыпанной золотистыми конопушками солнца. Он летит, а мимо мелькают берега, облака, зеркально отражённые в реке. И вот уже чудится, будто летит он над Рекою Великой Вечности, летит, ощущая всем телом каждую крупицу мирозданья. И даже не сам он летит – это дух его, дух воспарил. А тело его растворилось в потоках воздуха – и вся тайга, все берега и небеса приняли его в свои объятья, чтобы открыть ему тайны свои. Какие тайны и зачем? Весь этот мир земной давно-давно знаком Радомирке, и вся его сегодняшняя жизнь – лишь маленькая веха чего-то огромного, древнего, доносящегося из других миров и измерений.
4
В конце краснопогожего июня речка хорошо прогрелась. Чистое небо голубыми лоскутьями в глубине отображалось. Облака, проплывая над горами, над берегом, белыми рыбами скользили по реке. Иногда водяного можно заметить в прозрачной глубине – забавный такой, пучеглазый старик с большой тёмно-зелёной бородой. Но водяного редко тут увидишь, он любит прикинуться уткой, гусем или бревном, проплывающим мимо, – Радомирке эти хитрости откуда-то известны.
Трясогузки, тоненько попискивая, временами пролетали над лодкой – перепархивали с берега на берег. Присаживаясь на камни, потешно трясли хвостатыми гузками и опять спешили по своим делам.
Среди трясогузок порхала одна знакомая – Радомирка запомнил её по особой окраске: хохолок золотисто-жёлтый, будто солнышко оставило свой луч на голове. Он так и звал её – Солнышко, только у него почему-то получалось «Сонышко».
Пропархивая мимо, трясогузка услышала мальчика и моментально изменила полёт – покружила над лодкой и села на плечо Радомирки.
Отец уже не удивлялся подобным причудам, но всё-таки не мог привыкнуть. Покачав головою, он хмыкнул, наблюдая, как сын и трясогузка о чём-то беззаботно «чирикают», поглядывая в сторону курумников.
По берегам то справа, то слева взгромоздились рыжевато-серые каменные груды – курумники, миллионы лет назад словно бы насыпанные великанами. А ещё эти груды из мелко и крупно наколотых древних камней напоминали мальчику длинную дорогу, уходящую куда-то в небеса. Дорога эта лишь кое-где поросла кустами красной смородины и можжевельника, да ещё одинокие ели и кедры укрепились как-то, красовались среди камней.
Продолжая разговор с трясогузкой, Радомирка предавался мечтам:
– Сонышко! А здорово было бы вот по этой дороге пойти в небеса и посмотреть оттуда на речку, на посёлок, на весь мир. Тебе хорошо, ты летаешь.
– И ты научишься. Ну, мне пора. Лето короткое, надо успеть.
– Погоди-ка, Сонышко, угостить хочу.
Трясогузка спорхнула к нему на ладонь, клювом сощипнув какую-то вкусную крошку, стремглав полетела вперёд.
А там, далеко впереди, солнцем озарённая река звенела и пела. Там, среди порогов и перекатов, шипящая пена пышными шапками нахлобучивалась на тёмно-лысые головы камней, один из которых казался особенно страшным, несмотря на то, что мальчик именовал его довольно ласково – Дракоша.
В зависимости от уровня воды в реке этот огромный красноватый Дракоша-валун то выходил на поверхность, то скрывался, точно караулил проходящие лодки, чтобы винты откусывать, борта царапать.
Дракоша в этот час блаженствовал – загорал на солнце, жмурился тёмными трещинами. Сегодня вообще, заметил Радомирка, странное какое-то согласие ощущалось в природе, словно бы она готовилась к большому празднику. И на воде, и на земле, и на небе – всюду тишь да гладь да божья благодать.
«Или мне это кажется?» – подумал Радомирка, озирая окрестности.
Он ещё не знал, что праздник в самом деле приближается – праздник великого солнцестояния. Он думал, что природа такая необычная потому, что он сильно соскучился – давненько не выезжал из посёлка.
В последний раз он был тут, когда отзимогорили, когда ледоход, ледозвон хрустальной горой отзвенел и река очистилась, растолкав по голым берегам синевато-молочные и зеленоватые многопудовые льдины – крыги, издырявленные свёрлами солнечных лучей.
Кажется, только вчера ещё погода развесеннилась, брызнула первым дождём, вполнеба улыбнулась первой радугой. А теперь – гляди, как быстро, прытко – земля кругом оделась, нарядилась, обрадовавшись лету, короткому в здешних местах и потому особенно желанному. И цветы поднялись в полный рост, и густая трава шевелюрой накрыла каждую кочку. По берегам, обжигая глаза, то и дело вспыхивало живое пламя отцветающих жарков.
Высокие ели и пихты мрачновато завиднелись обережь. И где-то там стоял, ждал Радомирку ещё один знакомец – Кедровый Дед, зеленобородый, угрюмый, плечистый, на семи ветрах всегда речистый могучий кедр, которого парнишка звал Кедровым Дедом, а короче – Кедро-Дед.
«Где он? – Радомирка не сразу смог сориентироваться – заполошно глазами пошарил по берегу, запаниковал: – Неужели он упал от старости? А-а! Вот он, жив-здоров!»
Приподнимая мохнатую руку, в которой зажаты прошлогодние шишки, Кедро-Дед издалека поприветствовал мальчика.
– Привет, привет, дедуля! – Радомирка в ответ помахал двумя руками сразу.
Алексей Лукьянович посмотрел на берег, потом на сына. Вздыхая, достал папиросы. Иногда ему до боли становилось жаль парнишку, который вёл себя чудаковато, чтобы не сказать придурковато.
Спички гасли на ветру, и Причастин решил перетерпеть – зажал холостую папиросину в зубах.
«Щас будет не до курева! – подумал, глядя вперёд, но через несколько мгновений усмехнулся: – Тьфу ты! Башка еловая! Мы ведь не будем порог проходить, мы раньше причалим. А я напрягся…»
Следом бегущие лодки друг за другом утюжили воду, раскалённо ревели моторами. Но скоро этот рёв стал затихать и совсем заглушился лужёною глоткой Рязановского порога. Ох, как шумел он, как грозился издалека, этот угрюмый порог – речка Тея все ноги об него пооббила.
Причастин не раз и не два одолевал Рязановский порог и потому прекрасно представлял, что там, впереди, сейчас творится.
Светло-голубая, гладкая вода, подбегая к порогу, точно испуганно пятилась, намереваясь утекать назад. Но потом как-то робко, побито сутулясь, вода, истончаясь до целлофановой плёнки, перетекала через валуны лобастые. А дальше – ой, мама родная! – вода летела кубарем и страшно голосила, глазами-пузырями смотрела во все стороны; без ума, без памяти вода катилась вверх тормашками, вскипала, белопенилась, сама не зная толком, куда она теперь тут сможет выкатиться – кругом одно речное бездорожье, усыпанное кочками гранитными, ямами коварными изрытое. Белая пена шматками взлетала и растрясалась рваным черёмуховым цветом, кружившимся в соседних омутах, где жировала рыба, собирая корм.
Лодка, сбрасывая ход и грузно оседая, несколько метров прошла по инерции, носом кованым торкнулась в пологий каменистый берег – напротив порога.
– И чего тебя мамка не хотела сюда отпускать? – вспомнил Причастин. – Мы же не проходим Рязановский порог. Вот где надо бояться.
– А я не забоялся бы! – заявил парнишка.
Отец промолчал. Лицо его, напряжённо стянутое морщинами возле глаз, понемногу расправлялось, улыбка заиграла в уголках упрямо стиснутого рта.
– Вот и приехали, сын. Распрягай.
– Кого?
– Лошадей, кого. – Отец ладошкой похлопал по нагревшейся крышке мотора. – Знаешь, сколько лошадиных сил тут? Он хоть и старенький, да удаленький. А эти-то, наши… – Довольный отец хохотнул, глядя на лодки, идущие следом. – Далеко отстали, как ни пыжились.
5
Умиротворённо кругом. Тишина. Воздух чистый, пахучий, напоённый ароматом ягод, травы, разомлевших листьев и смолья.
Добирались вроде бы не долго, но солнце успело вскарабкаться на самую макушку небосвода, где плавали белые, редкие, словно синькой подкрашенные облака.
Полуденное солнце припекало: ветер в эту глушь не долетал, затихая на подступах, – вековечные кедры, сосны и ели возвышались могучими стражами. Трава на полянах местами поблёкла – жара сморить успела. Только редкий цветок, оказавшийся в затени, ещё хранил за пазухой росинку. Блестящие стрекозы там и тут воздух вышивали крестиком – зависали над поляной. Пчёлы трудились, басовито гудя.
Забывшись, Радомирка стоял возле берега, заворожённо созерцал таёжный мир.
– Сынок! – вторично позвал отец. – Ты чего стоишь, глазами небо ковыряешь? Помогай.
Он подхватил рюкзак, почапал по тропе, змеисто вьющейся между камней, поросших бархатом тёмно-зелёного мха и лишайника.
Не доходя до избушки, Радомирка внезапно замер.
Цветок, стоящий возле тропы, лазоревым глазом моргнул и невнятно что-то прошептал.
– Что говоришь? – Радомирка присел на корточки. – Ты можешь громче?
– Берегись! – прошептал цветок. – Не только друзья, но и недруги будут сегодня…
– Ты о чём это, братишка?
– Гора Полкан… Там ворон…
– Так. А что дальше-то? Рассказывай, братишка.
Но братишка уже не слышал.
Минутами назад отец по тропе протопал, тяжёлую ношу тащил на плече и покачнулся – мимо тропы ступил да прямо на цветок. И хотя цветок тот выносливый, живучий, но всё же оказался смертельно раненным: тонкие и нежные лепестки скукожились и один за другим потихоньку осыпались.
То и дело поглядывая по сторонам, Радомирка недоумевал по поводу услышанного.
Продолжая помогать отцу, он повторил про себя: «Не только друзья, но и недруги будут сегодня… Гора Полкан и ворон… А как это понять?»
Глава десятая. Могучий Уволга
1
Исполинская гора Полкан веками возвышается над Енисейским кряжем. И веками на этой горе обитает Могучий Уволга – дух горы Полкан. Он хорошо и основательно устроился – есть у него обитель, укрытая гранитным козырьком. Здесь можно спрятаться от непогоды, от палящего близкого солнца, со звоном втыкающего в камни стрелы своих лучей. Они, эти лучи, издалека людям кажутся нежными, тонкими, а на самом-то деле «в ближнем бою» они способны разрушать и гранит, и вулканическую лаву, которая, казалось бы, неподвластна никому и ничему.
Могучий Уволга вечерами любит посумерничать – посидеть возле окна своей обители, посмотреть, как звёзды проступают в вышине и как там, внизу, на сонном зеркале озёр, прудов и тихих рек серебристым звездоцветом распускаются отражённые небесные огни, похожие на лучистые лилии.
В эту пору особенно приятно побыть наедине и по душам поговорить с великой вечностью.
И ранним утром тоже красота – не налюбуешься.
Кроме этой обители на вершине горы есть нерукотворный прозрачный храм из чистого небесного «хрусталя» – такого священного камня, которым пользуются только лишь большие мастера, и пользуются только с позволения Творца. Тот камень легче воздуха, и, если ты не знаешь секреты мастерства и секреты особого слова, камень тебе неподвластен, он в руке твоей дымом рассеется, лирическим туманом растворится.
Неподалёку от прозрачного храма растёт необычное семицветное дерево, которое, в общем-то, никакое ни дерево. Это огромный обломок радуги, однажды после буйного дождя застрявший в каменной расселине да так и оставшийся. Радуга корни пустила, водицу родниковую нашла и прижилась – бог знает, сколько лет растёт, шелестит семицветными, рваными лентами, похожими на длинное, причудливое листовьё, листопадов не знающее.