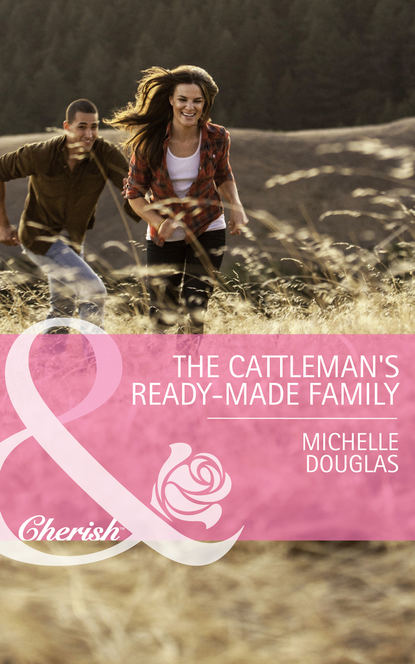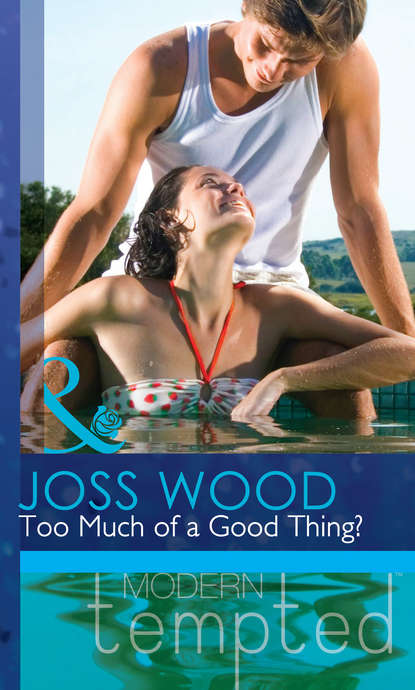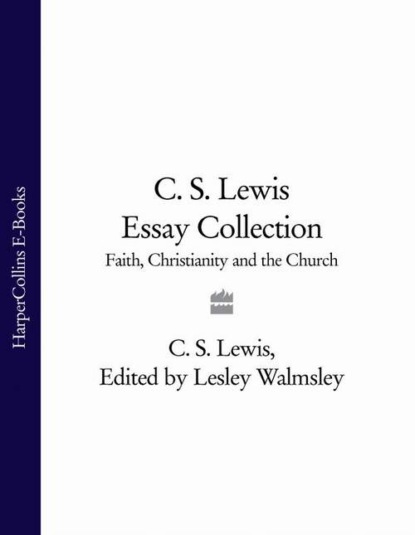Сердце камня. Легенда о СибИрии
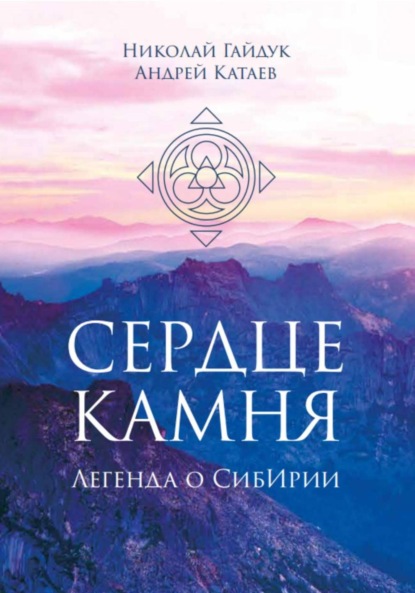
- -
- 100%
- +
– Пацаны! – Рыжеголовый посмотрел на крышу зимовья. – А давай залезем на чердак, пошаримся. Может, надыбаем интересное что-нибудь.
Сердце Радомирки больно ёкнуло.
– Там ничего хорошего. Только пыль глотать.
Эрик слегка удивился тому, что Чударик наконец-то с ним заговорил.
– А чего ты? Дрейфишь?
– Нет, я просто это… Я высоты боюсь.
– Лётчиком, значит, не будешь, – ухмыльнулся Эрик. – А кем ты хочешь быть?
– Так я тебе и сказал.
– Ох, какие мы да с крендебобелем… – И тут рыжеголовый завернул нечто такое нехорошее, чему, должно быть, научил его папка Непутёвый, будучи во хмелю. – Не хочешь, как хочешь, а мы полезем. Да, пацаны?
Нечто нехорошее, скабрезное, сказанное Эриком, всех пацанов против него настроило.
– Нет! – выразил общее мнение Антошка Добрынин. – Мы пойдём лучше рыбу ловить, да, Чударик? Ты с нами?
И опять ему пришлось уйти от зимовья.
Уходя, он оглянулся на кварцитовый камень.
«Что он хотел сказать? О чём предупредить?»
3
Азартных и заядлых рыбаков, над поплавком трясущихся, как мамка над младенцем, – таких не часто встретишь. И вот здесь, около Рязановской избы, ни одного заядлого не оказалось, не считая Причастина.
Шумная и пёстрая компания под видом рыбалки выехала просто «на природу»: беззаботно галдели, хохмили и подтрунивали друг над другом, хохотали над анекдотами и порой запускали ядрёное слово вдогонку сорвавшейся рыбине, если таковую вдруг закрючили, защучили.
– Ничего! Не беда! – утешал один другого. – Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший день на работе!
– А сорвалась-то большая. Жалко.
– Жалко у пчёлки, у рыбы нет. Пускай себе гуляет на просторе. Выпьем за свободу, мужики.
– Граждане, послушайте! А кто мне объяснит, зачем рыбак всё время на червяка плюёт?
– Традиция такая.
– Нет. Кудесник говорил мне, что червяк оплёванный начинает выделять какие-то защитные вещества, хрен их знает какие. А эти вещества, окромя защитного свойства своего, пахнут как-то соблазнительно для рыбы, привлекают издаля.
– Век живи – век учись. А я-то думал, что рыбак плюёт от не фиг делать.
– Нет, он рыбачит от не фиг делать.
– Почему? Рыбалка – дело серьёзное. Недаром же спортивная рыбалка появилась.
– Правильно. Рыбалка – это единственный вид спорта, где разрешается допинг. Короче сказать – наливай.
И снова грохот хохота над берегом, снова приглушённое звяканье посуды, снова байки, анекдоты, хохмы.
Но постепенно всё это затихло.
Природа понемногу брала своё – давила, покоряла могучим окружением, величием, которое многими людьми не осознаётся, а лишь воспринимается на уровне подсознания или какого-то древнего, ещё не угасшего чувства.
Голубовато-лиловые тени от гор, от деревьев ложились кругом – широко, лениво растягивались на воде, на поляне, где стояло зимовье, подслеповатым окошком ловившее последние проблески солнца.
Незаметно исчезли из воздуха стрекотухи стрекозы, попрятались бабочки. Отшумела самая настырная пчела, отлепившись от медового цветка, закрывающего лепестки. Острее и гуще запахли травы, листья, новорождённой росой окроплённые. И всё тише, всё реже переговаривались птицы по тайге, а вскоре и совсем затихарились где-то по дуплам, по гнёздам. Только дятел, сидя на большой разлапистой сосне, где находилась «кузница», не успокаивался – мелкой дробью постреливал по тишине, ронял очередную пустую шишку под неохватный сосновый комель – там этих шишек уже накопилась приличная горка, издалека похожая на крупного ежа.
4
Невдалеке от избушки зашуршал прошлогодний листарь, затрещали кусты – Славинский возвратился из тайги. Какие-то коренья держал в руках, траву. Долго слоняясь где-то, он, тем не менее, выглядел бодрым и жизнерадостным.
Ян Маркович ступил на край поляны, где стоял Радомирка – газами пытался найти на сосне трудолюбивого дятла, старательно долбившего дырку в тишине.
– Крестник, держи. – Славинский протянул антоновку или что-то наподобие того. – Яблоко на ужин – и врач не нужен. Так в народе говорят.
Где он в тайге мог найти жёлто-зелёное такое, распузатистое и ароматное яблоко? Непонятно. Это была ещё одна загадка в череде других загадок, которые Славинский как бы невзначай постоянно загадывал людям.
Подойдя к рыбакам, сидящим на пеньках и на поваленном дереве возле избушки, Кудесник охотно стал отвечать на вопросы: что за коренья, что за трава, от чего помогает, когда лучше пить.
Серёга Добрынин, высокорослый, крупноголовый, не случайно прозванный Добрыней – смотрелся как богатырь, только глаза у него будто задержались в детском возрасте: моргают наивно, доверчиво.
– И откуда ты всё это знаешь, Ян Маркович?
– Жить захочешь – узнаешь. – Славинский мрачнел от нахлынувших воспоминаний. – В одном из лагерей, где мне пришлось куковать, там очень сурово было насчёт хлеба. Там тебе давали тысячу грамм в сутки при выполнении стахановской нормы – это сто тридцать процентов и выше. Ударная норма – восемьсот грамм хлеба – при выполнении плана на сто десять или сто тридцать процентов. Производственная норма – шестьсот – при выполнении плана на девяносто или сто процентов. Штрафная норма – триста. Вот такая была арифметика. Но и это не всё ещё. Иногда, бывало, баржа с мукой затонет, наскочив на камни, или ещё напасть какая приключится. Вот и начинаешь землю ковырять – там корешок, тут маковое зёрнышко.
Стали расспрашивать дальше:
– И сколько ты по лагерям мытарился, Ян Маркич?
– Столько не живут, сколько мытарился.
– А что такое «по рогам», Ян Маркич? У тебя иногда в разговоре: пять лет «по рогам», десять лет «по рогам». Это как?
– Жаргон такой. «По рогам» – это поражение в правах гражданских и политических. Такое поражение для человека – юридическая смерть: он никто и звать никак.
Кудесник, широко зевая, рот перекрестил.
– А зачем ты крестишься всегда, когда зеваешь? – поинтересовался Ванька Непутёвый.
– Чтобы чёрт в нутро не заскочил. Так, по крайней мере, считали наши далёкие пращуры.
– Мало ли что говорят. На чужой роток не накинешь порток. Всех не переслушаешь.
– А послушать не мешало бы. Предки наши вон какую державу построили…
Мужики-рыбаки между тем занимались своими делами. Кто-то строгал себе новое удилище взамен поломанного на рыбалке. А кто-то – геологи всё же – рассматривал камешки, собранные возле реки. За много лет, а может быть, веков река отшлифовала камешки – гладкие, приятные на ощупь и ровно бы кистью художника разноцветно и замысловато наузоренные.
Геологи разговорились:
– Гляди-ка! На пресноводный жемчуг похоже.
– Куда там! Его уже нет и в помине!
– В том-то и дело. Эта штука теперь крайне редко встречается. Ян Маркович упоминал тут о наших пращурах. Так вот именно они в погоне за драгоценным камнем ещё в средние века почти полностью изничтожили речных моллюсков, тех самых, которые занимались производством пресноводного жемчуга.
– А вот это что? Держи. На зуб можешь попробовать.
– Это? Это известняк коралловый. Речной коралл. Осадочная порода. Образовалась в основном из кальцита и карбоната кальция.
Поговорив ещё немного, все как-то странно притихли, засмотревшись на пламенную зарю – малиново-пурпурным морем расплескалась над горами, над тайгой.
– Огромный денёк получился! – подытожил Добрыня.
– Не удивительно, – сказал Кудесник, – сегодня самый длинный день в году. И вот как раз сегодня будет то, что бывало на Руси только в самый-самый длинный день.
Мужики-рыбаки заинтересованно уставились на Кудесника. Тот, кто курил в полумраке, перестал курить. Тот, кто строгал удилище, прекратил острым лезвием полоскать красноталовый или берёзовый хлыст.
– А что бывало на Руси? Расскажи, Ян Маркич.
– Сами увидите, – пообещал Кудесник и, помолчав, добавил: – Если меру знаете.
– Какую меру? Ты о чём?
Славинский промолчал, лишь посмотрел в сторону мерцающих бутылок, в немало количестве привезенных мужиками.
Глава тринадцатая. Полюбите нас чёрненькими
1
Рыбалка на Рязановском пороге для Причастина – дело не только привычное, но и самое, пожалуй, любимое: он тут знал такие козырные места, где рыбу можно брать только что не голыми руками.
Минут через тридцать Причастин вернулся к шумной компании. Вернулся возбуждённый, довольный увесистым своим уловом.
– Как дела, рыбаки? – спросил немного снисходительно. – На уху наловили?
– Некогда! – Добрыня заиграл весёлыми глазами. – Мы Ваньку ловили. Как тайменюку большого.
– Зачем ловили? Как это понять?
– Да он за камень зацепил крючок, начал тянуть, упёрся болотным сапожищем в борт своей лодки, а она у него лёгкая, вертлявая, ну и выбросила Ваньку в холодную баньку. Хорошо, хоть не перевернулась, а то бы манатки его ловили потом до самого посёлка.
– А как спасали-то?
– Багром. А как иначе? Ванька – он же тяжёлый, склизкий, тайменюка этот. За штаны кое-как зацепили.
– За штаны? А в штанах-то ничего? Всё целое?
– Не жалуется вроде.
– А может, скромничает?
Мужики расхохотались.
И тут появился виновник веселья – успел в сухое переодеться.
– Вам лишь бы зубоскалить, – вяло отмахнулся Непутёвый. – Я и сам бы выбрался. Делов-то.
Причастин озаботился:
– Тебе надо выпить, согреться, а то ещё простудишься.
Непутёвый засандалил грамм сто пятьдесят, занюхал рукавом и опять – по многолетней привычке – попал под насмешки: дружно стали вспоминать многочисленные потешные Ванькины «подвиги».
Желая отвести насмешки от человека, Причастин расспрашивать начал его: где родился да где крестился. И тут не только сам Причастин, но и все остальные, кто слушал, сделали открытие совсем другого Ваньки.
2
– Моя судьба геройская, – простодушно заявил Непутёвый, – могла бы потянуть не тока на рассказ или на повесть – это целый рОман, который начинался бы с того, что Ванька Непутёвый – никакой не Ванька. Я – Валька. Да-да. В паспорте так и прописано: Валентин Евсеевич Путевой. Дед мой, а потом и отец работали путевыми обходчиками на железной дороге, вот откуда такая фамилия – Путевой.
– Надо же! – покачал головою Причастин. – А когда же, как так получилось, что ты превратился в Ваньку Непутёвого?
– Судьба! – философски ответил рассказчик. – Судьба, как говорится, играет человеком, а человек играет на трубе… на выхлопной…
И он продолжил свой рассказ, довольно искренний, несмотря на то, что в его рассказе было много эпизодов, не красящих героя. Ваньку это ничуть не смущало. У него наготове имелась хорошая присказка: полюбите нас чёрненькими, а беленькими всяк нас полюбит.
Какое-то время Ванька Непутёвый был как межедомок, ветрогон и шалопай – ни кола ни двора. Случайные заработки зашибал, иногда неплохие, но всё уходило в лужёную глотку – пропивал с купеческим размахом, чтобы через день-другой рваный рублишко выцыганивать на опохмел. Так он гастролировал по жизни, покуда на пути его не встала Степанида, гора живая и сердобольная, готовая валандаться с этим непутёвым мужиком. Степанида, которую он в сердцах называл «Степагнида», примером своей жизни будто подтверждала выражение: любовь зла, полюбишь и козла. У них пацан родился – «рыжий спиногрыз», так грубовато-ласково папаша называл сынка. Ванька немного остепенился, несколько раз даже пробовал завязать со своими пьянками-гулянками, держался, бывало, и месяц, и два, но потом его подкарауливала «тяпница» – так у него звучало слово «пятница». Видно, характер-то не переделаешь: ты его в дверь, а он в окно. И просто удивительно, как это ещё ему доверили водить уазик, на котором он уже ухайдакал нескольких куриц в посёлке и чуть не переехал поросёнка, мирно отдыхающего, грязевую ванну принимающего в придорожной канаве.
– Поначалу, – признался Ванька, – я шибко горевал насчёт своей вот этой непутёвости, а потом один хороший человек мне картину маслом нарисовал.
– Сливочным? – не удержался кто-то.
– Постным, – спокойно ответил Ванька. – Таким же постным, извиняюсь, как морда твоя.
Мужики расхохотались, оценили шутку:
– Хорошо отбрил! Так что же за картина маслом получилась?
– А картина, значится, такая. Все напасти, все непутёвости Господь Бог должен был разделить промежду многими людьми. Но все эти напасти – мне одному достались. Соображаете, граждане? Вот и получается, что я страдаю за вас, окаянных. И никто ведь спасибо не скажет. Все тока зубоскалят, изгаляются.
– Интересная теория.
– А ты как думал? Я вообще человек интересный, ежели сказать без ложной скромности. Вот вам ещё, к примеру, история судьбы моей. История под названием «Полюбите нас чёрненькими».
И чем больше рассказывал Ванька, тем больше он раскрывался как человек неординарный, самобытный. На Ваньку теперь даже смотрели иначе – с удивлением и уважением.
– Ты вот с лодки упал – так это ещё полбеды, – сказал Добрыня, будто стараясь показать, что и он примерно такой же, как Ванька. – У меня в прошлую осень гораздо хуже было. Я тут неподалёку чуть не утонул за здорово живёшь. Как? Да очень просто. Мотор зафордыбачил. Я так и сяк – молчит, прикинулся куском железа. Не заводится, хоть тресни. Дёргал, дёргал за шнурок, аж ладонь в крови. Разозлился. Дёрнул напоследок! А он, собака, взял да и завёлся. Взревел на самых полных оборотах, и моторка полетела как на крыльях. И я полетел. С лодки булькнулся в реку. А дело-то уже поближе к осени. Вода холодная. Кошмар. Моторка, мать её, как заводная, бегает кругами возле меня. Я только нырять успеваю, чтобы винтом башку дурную не побрило.
Развеселились все, кто слушал. А Ванька Непутёвый, кажется, смеялся громче всех, до того распотешился – чуть не упал с пенька, на котором сидел.
– Ладно, мужики! – Алексей Лукьянович хлопнул ладонью по столу. – Байками сыт не будешь. Предлагаю заняться ужином.
Принесли ведро с водой, водрузили на специальные железные крючья. Береста полыхнула, озаряя капли – серебристой бахромой оторочили днище. Задорно затрещали, разгораясь, сухие смолистые ветки и сучья, наполняя пространство приятным ароматом сгоревшего лишайника уснеи, который в народе называют бородою лешего. Дымок повалил, отгоняя занудливых комаров, стайками кружившихся над головами.
С большим огнём, раздухарившимся на поляне около избушки, сразу стало веселей. И дело всем нашлось возле костра: кто-то пошёл за дровами, кто-то рыбу взялся потрошить, кто-то сушил сапоги и портянки.
Ребятня резвилась неподалёку: бегали, скакали, внезапно замирая, зачарованно и как-то «первобытно» глядя на костёр – на огнедышащий куст, горячо шумящий на ветру красными и золотыми, зеленоватыми и синеватыми листьями.
И Радомирку вовлекли в эти наивные, задорные игрища и забавы. Он смеялся, кувыркался, но при этом глаза оставались серьёзными – то и дело посматривал на чердак зимовья.
3
Земля, хорошо прокалённая солнцем, остывала, щедро отдавая жар. Причём остывала стремительно, как это бывает только в горах. Зародившийся туман, густея, молоком растекался в низинах, где стадами и поодиночке бурёнками лежали огромные бурые валуны.
Рязановский порог в вечерней тишине точно подошёл поближе – сильней заголосил. Голубовато-серый сумрак, сгущаясь, трамбовался между стволами неохватных и мелких деревьев.
Утрачивая свой ослепительный блеск, солнце обретало удивительно чёткую округлую форму, точно по циркулю изготовленную.
И вот наступила минута, когда солнце превратилось в багровый, с боку чуть примятый шар – огромный самородок, лежащий, будто в ладонях, в далёкой седловине гор. Последние лучи пронзили березняк по-над берегом и озарили мглистую поляну у реки, где пацаны раздухарились, разребячились, забывая обо всём на свете.
Сделав рупором ладони, Причастин крикнул:
– Эй, гвардейцы! Идите скорей, а то здесь ложками орудовать умеют – ни головы, ни хвоста не оставят! Только сначала умойтесь. Мы, конечно, вас и чёрненькими любим, но всё-таки…
Ребятишки помыли руки, сполоснули мордахи, сели за стол – дощатый, поцарапанный острыми ножами, сверкающий чешуйками, пахнущий костром.
– Так! – торжественно провозгласил Кудесник. – Сейчас будет праздник брюха!
Закопчённое ведро, из которого «букетами» торчали рыбьи хвосты, дышало терпким ароматом – у мальчишек слюнки потекли.
Рыжеголовый Эрик – пацан без комплексов. Хлебнул разок-другой и не спросил, а потребовал:
– А перцу? Перцу дайте! Маловато перцу, дядя Лёша.
– А мне так в самый раз, – Радомирка ложкой в чашке покрутил. – Отличная уха.
– О вкусах не спорят, – напомнил Причастин. – Только вот беда какая, братцы-кролики: нету перцу, милые, вы опоздали.
Эрик удивился, потыкал пальцем в стол:
– Так он же тут стоял. Куда он делся?
– А ты спроси у папки.
Минутами раньше, усевшись за стол, Ванька Непутёвый решил свою похлёбку поперчить, но размахнулся так широко – весь перец ухнул в чашку, расплываясь чёрной зловещей плёнкой.
Непутёвый поначалу изумлённо выпучил глаза, а потом, отвернувшись, стал громко и раскатисто чихать от перчинок, попавших в нос. Прочихавшись, Ванька сделал вид, что ничего особенного не произошло. Он стал хлебать уху, да так отважно – ни единый мускул на лице не дрогнул.
Глядя в чёрную чашку родителя, Эрик обалдело прошептал:
– Батя, а тебе не поплохеет?
– Цыц! – Батя ложкой треснул Эрика по лбу. – Ты же слаще морковки не жрал ничего, а туда же – перцу ему не хватает. Мозгов не хватает. Сидишь тут, капризы строишь. Нормальная ушица, с дымком, с огоньком. Можно сказать, с огнём. С таким огнём, зараза, прямо хоть пожарных вызывай.
Хохот грохнул за столом.
– Крепись, геолог! – приободрил Причастин, стараясь быть серьёзным. – Не пропадать же добру.
Посмеявшись, проголодавшаяся ребятня навалилась на ароматное варево – ели дружно и азартно, только ложки брякали. Затем попили чаю с пахучими листами смородины. Осоловели, зевая. Поднялись тяжело, медлительно. Спать гуськом отправились в избу. За день так накувыркались, так устали, что на грубые дощатые нары упали, как на самую пушистую перину.
И только Радомирка решил остаться.
Глава четырнадцатая. Рассказы около костра
1
Возле костра в тайге не только ребёнку, но и взрослому интересно послушать разные байки, побаски, былички или что-то подобное. Истории эти бывают правдивыми, а порою абсолютно завиральными. И вот что странно: все эти россказни возле костра приобретают какую-то магическую силу, они чаруют и завораживают, заставляя сердце замирать или колотиться молотком в ребро, заставляя душу бросаться в жар и в холод.
Кажется, при свете дня услышишь ты всё это – и в ответ лишь только усмехнёшься, плечами пожмёшь: ничего, мол, особенного. Но когда костёр языками красными облизывает ночь, сорит искрой и тени в деревах шатаются, когда луна, лицом своим бледнея, как привидение, закутанное в простыни тумана, идёт, крадётся между горными горбами; когда в мохнатых ветках, будто в ресницах, живыми глазами глядят на тебя и мигают лучистые звёзды; когда кто-то или что-то шуршит, скребётся под камнем или деревом, – каждое слово тогда приобретает совершенно другое звучание, другую окраску, другую остроту, другой накал.
– Ян Маркович, – вспомнил Причастин, – расскажи, как ты встретил Белую Царевну под землёй.
– Царевну? А-а! Это когда в Горном Алтае работал. Было дело. Чуть не помер от страха.
– А что за царевна? – заинтересовались мужики.
Славинский достал свой костяной, оригинальный гребешок и, о чём-то задумавшись, взялся расчёсывать длинную, из кольца в кольцо свивавшуюся бороду.
Ему не хотелось рассказывать сказки.
Сегодня – он это знал наверняка – Природа-матушка сама расскажет людям такую сказку, что дух захватит.
Между тем геологи нашли другую тему для разговора.
– А почему Рязановский порог? Кто он такой, Рязанов? Через день да каждый день спотыкаемся об этот порог, а почему так зовётся – не знаем. Вот разве что Ян Маркович расскажет, как да что тут…
– Расскажу, я ведь это помню как сейчас, – вполне серьёзно начал он и спохватился: – Шучу. Ну, в общем, так.
2
Давным-давно когда-то на Урале, задолго до основания Екатеринбурга, на побережье озера Шарташ старообрядцы построили село Шарташ. Жили там, поживали, трудом, горбом своим добро наживали. Старообрядцы эти, люди упрямые, крепкие, на побережье озера сбежали от реформ Никона. Родом были они из Нижегородских земель и называли себя кержаками – по названию нижегородской реки Кержень.
Село Шарташ со временем оказалось своеобразной потаённой столицей старообрядцев, так его иногда называли.
И там же, кстати, на берегах озера Шарташ, найдено было первое в России рудное золото и открыто Берёзовское месторождение.
А ещё село Шарташ известно тем, что это – колыбель давнего рода Рязановых, башковитых, предприимчивых купцов-староверов.
Наиболее знаменитыми в этом роду оказались Аникий Терентьевич и Яким Меркурьевич Рязановы. И тот и другой неоднократно выбирались городскими головами в Екатеринбурге, в нынешнем Свердловске, значится.
Купец Аникий Терентьевич был золотодобытчиком от бога. Про него писатель Мамин-Сибиряк буквально так обмолвился: «Первый король золотого дела, великий делец в своей специальности, человек, умеющий держать в руках миллионы…»
И вот эти купцы-старообрядцы Рязановы – совместно с другими купцами, такими, как Верходанов, Баландины – в первой половине девятнадцатого века организовали экспедиции в Сибирь, в результате чего были открыты первые золотые россыпи…
В Сибири купцы Рязановы широко развернулись.
У Рязановых имелась своя резиденция в устье реки Пит, от которой они проложили дорогу на прииски. Ту дорогу так и называли – Рязановская. И другая дорога имелась у них, называлась – Усть-Питская.
Ну, а что касается Рязановского порога – тут не разберёшь теперь, где правда, где вымысел.
Название это, если верить народной молве, появилось после одной опасной авантюры. В тот год на приисках Рязановых золота много добыли. Ценный груз до Енисейска пришлось доставлять по вешней воде.
А речка Тея, обычно скромная, негромкая, спокойная, всегда по весне разливалась – кипела кипятком, рвалась на берега, подтопляя красноталы и выходя погулять, пошуметь на покосных лугах. Мужики приисковые, работяги знали об этом, но всё же рискнули, надеясь на наш всемогущий русский авось. На плотах и на лодках они отправились по «кипятку» белопенному. И в результате одна из лодок перевернулась возле самого порога. Мужики, не думая о том, что можно голову свернуть, самоотверженно попрыгали с лодок других, с плотов – спасали золото. Что уж там они спасли и что река забрала себе за пазуху – история умалчивает.
Известно только то, что купцы, когда узнали об этом подвиге, отблагодарили отчаянных ребят – деньгами и водкой. И вскоре возле этого порога Рязановы построили небольшую Свято-Никольскую часовню. Денег на Божье дело братья не пожалели, так что часовня получилась – на загляденье.
Позднее какой-то рыбак одинокий, отшельник, возле порога поставил избушку на курьих ножках, жил там, присматривал за часовней. А ещё позднее лихой народец, после революции отринувший Бога, шатаясь по тайге да по реке, погубил Свято-Никольскую часовню. Но приют рыбака сохранился, а в народе сохранилась добрая память о купцах Рязановых – вот этот бурный широкошумный порог. А в Свердловске, по-старому Екатеринбурге, в честь купцов-староверов Рязановых много чего названо: улица, усадьба, церковь, кладбище.
3
Занимательный рассказ получился. И время за рассказом, как вода в реке, убежало незаметно и неслышно. Кажется, только что в небе ковш Большой Медведицы висел высоко, а теперь он уже воду из речки готов зачерпнуть.
После рассказа мужики молчали, задумчиво глядя в костёр. Только сучья в тишине шаловливо пощёлкивали, подбрасывая в воздух жёлтых и оранжевых жуков, падающих неподалёку и медленно истлевавших.
Причастин одним из первых вышел из забытья.
– Спасибо, Ян Маркович, просветил, да так интересно, что слушал бы и слушал.
Воспоминание о Рязановском золоте подтолкнуло геологов на разговоры о золотой лихорадке, когда-то захлестнувшей Енисейский Север.
Кудесник, посмотрев на тёмные громады гор, кое-где осыпанные серебрецом созвездий, тихо спросил:
– А вы знаете, где в енисейской тайге появилась первая драга?
– Тайга большая. Ну и где же?
– На речке Тея, на прииске «Лада». В ту пору здесь было дражное предприятие, называлось – «Тейское золотопромышленное товарищество». А вторая драга задрожала на реке Енашимо. Драга – ведь это название возникло от слова «дрожь», «дрожать».