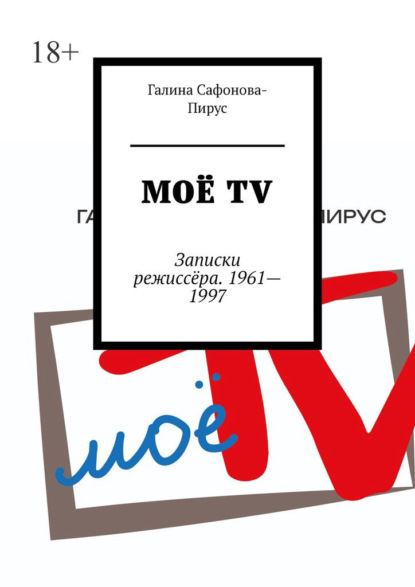- -
- 100%
- +
Потом он уехал поступать в Университет, я – в институт Культуры на режиссерский факультет, но ни он, ни я не поступили. И не жалели об этом, – ну зачем было мне учиться еще пять лет режиссуре, если даже то, что знала в этой профессии, было почти не нужно.
«Одна в квартире. В батареях шумит вода. Хотел зайти Димка, но послушал меня и… Завтра иду на концерт Жака Дуваляна. Одна. Потом уеду в Карачев».
Но были встречи с Димкой ещё и ещё, – наверное, махнула рукой: ведь всё равно скоро уезжает.
«Прощалась с Димкой с самого первого дня, но не смогла привыкнуть. Больно ходить по улицам, по которым с ним бродили, – всё напоминает о нём, всё полно им. А его нет.
И не будет. Ни-ког-да!»
Рядом с нашим домом, над оврагом, – роща «Лесные сараи». И роща эта – из вековых сосен, лип. Жаль, что редко прихожу сюда. Почему? Но вот сегодня… Почти час стою на проталинке, прильнув спиной к сосне и подставив себя солнцу. Тишина. А передо мной – снежная полянка, та самая, на которой когда-то сидели с Димкой. И была я в красной короткой юбочке, черной, открытой кофте и волосы – до плеч… Да, как раз здесь и сидели, выбравшись из оврага, по которому пробирались босиком, неся обувь в руках, а потом обмывали ноги выпавшей росой.
Ди-имка, где ты? И в этой ли юдоли?
«Взяли к нам помощником режиссера парнишку, зовут Сережей. Лицо напряженное, взгляд беспокойный. И похож на красивого щенка-подростка. Вчера, во время прямого эфира, стоит у пюпитра и вдруг по тихой связи слышу его шёпот: «Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа…» Взглянула через студийное стекло, погрозила пальцем, тоже прошептала:
– Серёженька, Есинин – потом, прямой эфир как-никак.
А позже, на репетиции с ансамблем, подошел к танцорам и сказал:
– Что же вы такую чепуху показываете?
Руководитель обиделся: нехорошо, мол, вот так, прямо… а Сережка:
– Почему ж нехорошо? А если я так думаю.
Забавный парень.
…Когда прихожу на работу, то даже те, которых недолюбливаю, в разговоре оживают, озаряются улыбкой, и я не могу от них отвернуться, огорчить резким словом. Ложь – во мне?
…У Сережки слабейшие нервы. Не могу видеть его лихорадочных движений, воспаленного взгляда, – хочется обнять и, напевая что-то светлое и ласковое, навевать забвение. Яркий, колеблющийся от малейшего ветерка огонек, светлый луч. И кажется, что он из тех, о которых писал Мережковский3: «Посмотри, каков луч солнца, когда он проникает через узкую щель в темную комнату. Он протягивается прямой линией, потом ложится на какой-либо твердый предмет, преграждающий ему путь и заслоняющий то, что он мог бы осветить. Но луч лишь останавливается, не скользя и не падая. Так и душа твоя (Сережи) должна сиять и изливаться, не изнемогая и не ослабевая, как луч солнца освещая то, что может принять свет».
…Областной фестиваль самодеятельности. В Доме культуры отбираю для передачи номера коллектива из Стародуба и… Боль – в глазах, боль – в голове. Наступает, сдавливает. Ах, как глубоко входит всё это в меня! Волнуются исполнители, и я – с ними. Ошибается баянист и во мне – что-то… Дергается занавес и – я с ним. Голоса, суета, споры жюри… мелькают юбки, кофты танцоров… Громко, всё очень громко! Болит, раскалывается голова!.. Выхожу в холл. Тюфячки – на полу. Полежать бы на них с закрытыми глазами!.. Но опять поют, танцуют, поют… Жарко! Слабость, боль.
Еле-еле – до троллейбуса. Двери открываются, закрываются в моей голове! На каждой остановке! Тошнит… Закрываю глаза. Но опять – лица, юбки, лица… поющие рты, мелькающие ноги… Нес-тер-пимо!
Наконец-то – дома. Нашатырный спирт, две таблетки. Зубы стучат о стакан воды. Падаю на кровать. Слезы – по вискам, на подушку. Медленно тает боль. Засыпаю».
Командировки, съемки, монтаж сюжетов, фильмов, репетиции с самодеятельными коллективами, показ театральных спектаклей – всё это было сложно и зачастую крайне утомительно. Но мне нравилось. Только бы не замечать лжи, которой были пронизаны передачи!
Только в шестидесятые, которые теперь называют «годами Хрущевской оттепели»4, – наконец-то появилась относительная свобода. И это значило, что там, в Москве, уже прорывалась из-под земли живительная влага: у памятника Маяковскому5 и в «Политехническом» институте, при переполненных аудиториях, поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Бэла Ахмадулина, Булат Окуджава читали свои стихи, в которых звучало сопротивление идеологии социализма; в театре «Современник» шёл спектакль режиссера Олега Ефремова по роману Юрия Трифонова «Дом на набережной», навлекая на себя гнев правящей партии; ставили спектакли «сопротивления» режиссеры Георгий Товстоногов, Юрий Любимов, Анатолий Эфрос, Марк Захаров; с трудом, но устраивали вопреки «методам социалистического реализма» выставки своих картин художники «Андеграунда», и на эти выставки люди выстаивали огромные очереди.
Но всё это было там, в Москве, а у нас, в провинции… Оставались мы еще маленькими замершими корешками дерева, в которые лишь через пару десятилетий тоже начнет проникать живительная влага.
«Делала передачу из театра. Димка Свидерский… Вот уже несколько дней во мне – мелодия. Незнакомая, манящая. Долго ли продлится очарование? Эти родственные души!.. Словно в себя заглядываю. А уходят, и с ними – частица моего «я».
…Командировка в район. Гостиница. Затёртые, ободранные обои на стенах, нет покрывал на кроватях, нет половичков возле них. А рядом – совсем седая соседка ровесница: её муж погиб в автокатастрофе восемь лет назад; дочь в девятнадцать лет родила без мужа; у сына жена не готовит, не стирает, а только гуляет. И рассказывала всё это сдержанно, с полуулыбкой, но всё равно… А утром, в прорвавшемся через тучи луче солнца – освежающе-жёлтый бархат одуванчиков и воздух обалденный!
…Теперь я – главный режиссер. «Обмывали» меня в холле, а потом все ушли к своим мужьям, женам, детям… Остатки еды на тарелках, огрызки яблок, стаканы на раскисших газетах… Пришла домой. Совсем одна! Сижу и реву».
Потом было замужество, рождение дочки. Борис уходил на работу, мамы рядом не было и во мне, напрочь привязанной к дочке, рождалось ощущение: я – под арестом. Под домашним арестом. Иной раз даже плакала от бессилия и невозможности вырваться из замкнутого круга, да и по работе скучала. Но надо было привыкать. Надо было выкарабкиваться к свободе, но уже вместе с дочкой, ибо то великое счастье, которое испытала, когда в палату впервые принесли ее, всё оправдывает.
«Первый день на работе после трехмесячного перерыва. И угодила к событию: наш председатель Телерадиокомпании Туляков возвратился из Москвы и вот на летучке рассказывает о театре на Таганке:
– В холле висят портреты актеров в негативе… – И его большая губа пренебрежительно отвисает: – Даже под лестницей фотографии развешены, – держит паузу, обводя нас взглядом: – Потолок чёрный, актеры во время спектакля всё стоят на сцене за какой-то перегородкой и высовывают оттуда только головы. – И губа его отвисает ещё ниже: – Правда, в конце всё же пробегают по сцене, – снова медлит, ожидая поддерживающей реакции: – А фильмы американские… сплошной половой акт! – обводит нас тяжелым взглядом и горестно вздыхает.
А я сижу и думаю: ну разве такой руководитель может потребовать от журналистов чего-то умного, интересного?»
Да он и не требовал. Самой главной его заботой (как и всех идеологических работников того времени) было: уловить «идейную направленность» Обкома, отобразить её в передачах, и не пропустить «идеологических вывихов». Но нас, телевизионщиков, – в отличие от радийцев, – спасало в какой-то мере то, что Туляков не знал нашей технологии, да и не хотел знать. Помню, как на каком-то собрании бросил: «Нет, не пойму я вас, телевидение», и перестал ходить на наши еженедельные летучки.
«Меня, как главного режиссера, прикрепили к обкомовской поликлинике.
Ходила туда. Коридоры пусты (а в наших-то, народных – очереди!); вдоль стен – диваны, как подушки (нам бы в квартиру хотя бы один!); врачи принимают каждого чуть не по часу (а нас, плебеев, выпроваживают минут через десять!); в холл вносят импортные кресла (таких и не видела!), а напротив сидят два холеных представителя «великой и созидающей» и громко, с удовольствием рассказывают о своих болезнях.
Противно. Больше не пойду.
…Ослепительное, до рези в глазах, солнце. Пыль от ещё не закрепленной травой земли, обрезанные, изуродованные деревья, а в троллейбусе звеняще-шумно. И кажется, всё, – и в природе, и во мне – распадается на какие-то составляющие. Неприятное, изматывающее чувство… А на работе – изрытый канавами двор, грязь стройки, кабинет, затопленный всё тем же раздражающим ярким солнцем! Нет, не могу оставаться здесь, а до эфира еще почти два часа.
И выхожу во двор, иду в свой уголок меж забором и стеной студии. Но там стоит чей-то мотоцикл. Присаживаюсь на него, смотрю на еще голые березы… Нет, и здесь – не то!
И ухожу в свои улочки. Они – за телецентром, только выйти за ворота. И уже иду по тропинке вдоль забора. У обочин – первоцветы. Они еще не распрямились, – словно боятся оторваться от земли, – но в них столько дразнящей радости! Медленно, чтобы не спугнуть врачевание, иду и уже радуюсь чуть пробившейся травке, разбуженным почкам деревьев, готовым вот-вот выпустить затаившуюся жизнь листьев. А вот и лавочка возле дома, напротив – безлюдные дачки. Сажусь, закрываю глаза. Тишина, свист синичек, писк воробьев… Господи, счастье-то какое! Сидеть вот так и просто слушать!
«И понемногу душа ее наполняется покоем».
…Областной партийный орган «Рабочий» вышел с фотографией моего коллеги режиссера Юры Павловского и статейкой о нём: лучший режиссер! То-то накануне заглядывал в наш кабинет секретарь парторганизации Полозков:
– Юра, фотографироваться!
А я возьми да в полушутку спроси:
– А меня? Почему меня не приглашаете?
– Мы так решили, – бросил, словно отрезал.
И сообразила: так ведь Юрка хоть и работает у нас «без году неделя», но зато партийный.
…Запись передачи «Встречи». Клоун Май. Ма-аленький, с собачкой, – словно мягкой игрушкой! – жонглирующий кольцами, бумерангами. Местный поэт Фатеев:
То, чего не забуду, То, чего еще жду, — Это только акация В белом-белом цвету…Но перед самым эфиром позвонили из цензуры: «Убрать строчку в стихотворении „там, где косточки хрустят“. Ох, и до косточек им дело!»
До самой Перестройки6 (девяносто первого года) часа за два до эфира автобус увозил сценарии наших передач в отдел цензуры, там их читали «ответственные товарищи», вычеркивая недозволенное, и только после этого… Так что экспромты в эфире были недопустимы, и журналисты с выступающими просто читали заранее написанные тексты, поглядывая на телекамеру. Каково было смотреть подобное? И разве при такой системе нужна была режиссура?
«Планерка, а планировать нечего. Мой начальник Анатолий Васильевич выговаривает журналистке Носовой:
– Вы должны были сделать праздничную передачу…
– Вот она, – встряхивает та листками, – только не отпечатана.
Потом выясняется, что печатать и нечего.
– Тогда надо запланировать передачу Юницкой, – предлагает.
Перепалка между ним и зав. отделом Ананьевым. Маленький, лысый, вечно с какой-то засушенной, приклеенной улыбкой, которая и сейчас на его губах, – разводит руками:
– Но нет сценария, – поглядывает на меня, – а главный режиссер без сценария не планирует.
Анатолий Васильевич смотрит на меня с укором:
– Отстаем по вещанию на три часа.
Но я не сдаюсь: нет, мол, сценария».
Зачем это делала! Зачем портила нервы и себе, и Анатолию Васильевичу, который был мне симпатичен?
А стал он заместителем Тулякова уже при мне, и дело было так: в то время мой брат редактировал рассказы Владимира Владимировича Соколовского, секретаря Обкома партии по идеологии, и когда зашла как-то речь о замене заместителя Тулякова на местного писателя Савкина, (который кстати и не кстати любил цитировать строки Тютчева7: «Природа – не слепок, не бездушный лик…», делая при этом ударение в слове «слепок» на «о»), то брат и порекомендовал Анатолия Васильевича, который был тогда первым секретарем комсомола в Карачеве. А человек он был мягкий, эмоциональный. Помню, не раз даже слезы поблескивали у него на ресницах после моих удачных передач. Нет, не вписывался он в «когорту верных» партийцев, где не полагалось иметь своего отношение к чему-то, да и знал, наверное, цену тому, чем руководил и поэтому не срабатывался с Туляковым, Полозковым, в которых «своего» почти не оставалось или уж слишком глубоко было упрятано. Через год их разность дойдет до «красной» черты, и тогда я пойду в Обком к заместителю первого секретаря по идеологии Валентину Андреевичу Корневу, чтобы защитить своего начальника от нападок Тулякова, но моя попытка окажется напрасной.
Помню расширенное заседание Комитета, на котором Анатолия Васильевича клеймили, а, вернее, не только его, ибо все бичующие речи были обращены ко мне, – он не пришел на экзекуцию, а я была его «правой рукой», – и вскоре перевели его заведовать областным Архивом. Через несколько месяцев и Тулякова проводят на пенсию, а того самого Корнева, к которому я ходила в Обком, назначат председателем нашего Комитета. С тех пор своего начальника я больше не видела и теперь… Каюсь, каюсь перед Вами, Анатолий Васильевич, что не попыталась встретиться, поговорить с Вами и стыжусь, что сражалась за сценарии, зная, что в них – враньё. И только тем в какой-то мере себя оправдываю, что не хотелось становиться халтурщицей, как мой коллега, который монтировал кинопленку «на локоть», – наматывал на руку и бросал монтажнице, а я…
С какой же тщательностью монтировала летописи пятилеток! Как изматывала дотошностью и себя, и Вас, пытаясь из этого «исторического материала партии» сделать что-то интересное.
«Начало ноября. С неделю было тепло, но вдруг подморозило. Как же неуютно, паршиво на улице! Будто висит в воздухе тонкий, пронзительный звук.
И на работе – собрание постановочной группы изматывающее, бестолковое… а надо усмирить, помирить всех. И подготовка к эфиру нервозная, спешная… а надо объединить операторов, помощников, диктора, редактора, выступающих, чтобы в эти тридцать минут стали чем-то единым.
…Еду на работу. За окном троллейбуса слякотно, грязно, а я читаю. И как же удивительно хорош этот мой мирок! Странные, но драгоценные мгновения.
А на работе… Проносится слух по коридорам: дают масло!
Иду, занимаю очередь. Подходит, усмехаясь, телеоператор Женя Сорокин:
– Ты почему чужое масло берешь?
– Как это? – не схватываю сразу смысла его ухмылки.
– А так… Его доставали для журналистов и давали им по полкило, а постановочной группе… вот, оставшееся, и только по двести.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Органы – Комитет государственный безопасности.
2
«Новый Мир» – один из старейших в России (издается с 1925 года) ежемесячных толстых литературно-художественных журналов.
3
Дмитрий Мережковский (1865—1945) – русский писатель, литературный критик, публицист, религиозный мыслитель, переводчик.
4
*«Хрущёвская оттепель» – обозначение периода в истории СССР после смерти И. В. Сталина, продолжавшегося около десяти лет (середина 1950-х- середина 1960-х годов, время правления Н. С. Хрущёва).
5
Владимир Маяковский (1893—1930) – русский поэт, драматург, художник и актёр.
6
Перестройка – общее название кардинальных перемен в экономической и политической структуре страны с 1985 по 1991 год.
7
Федор Тютчев (1803—1873) – один из крупнейших русских поэтов.