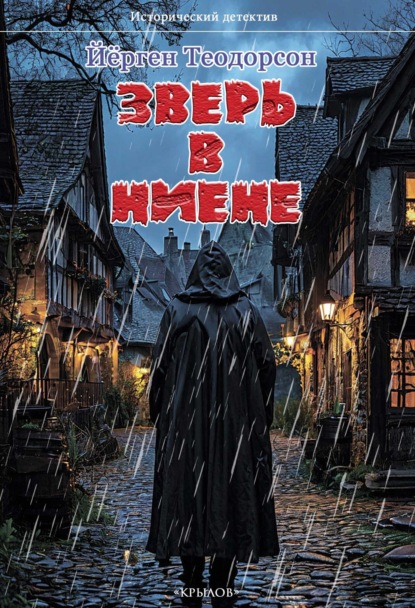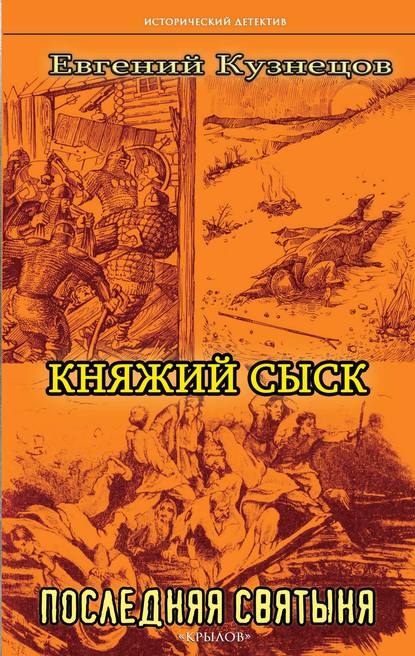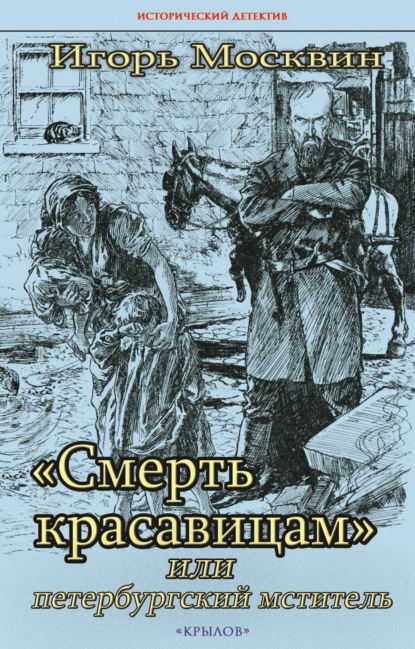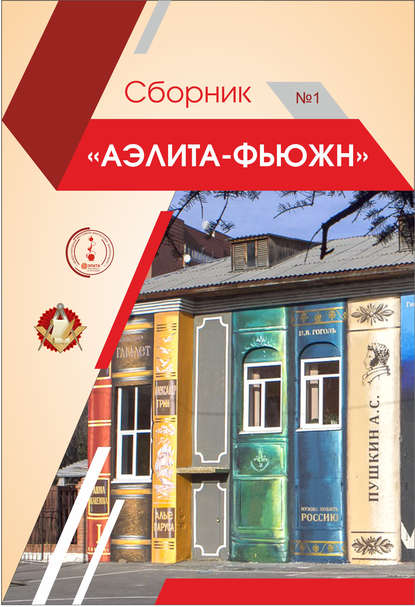Парень не промах
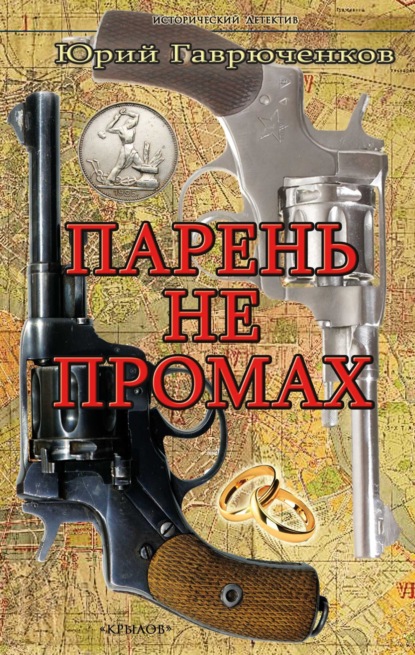
- -
- 100%
- +
– Как идут дела с поисками мастерской? – Колодей говорил крайне деликатно, видя, что парню досталось, и стараясь отвлечь от тягостных дум.
– Пока без результата.
– Я вот что подумал. Ты продолжай общаться с контингентом, – Колодей перешёл на «ты», заметив, что Панов оттаивает. – Одно другому мешать не будет. Пройдись-ка по слесарным артелям. Знаешь, есть маленькие частные предприятия, в которых мастерят всякую всячину. Возникло у меня предположение, что у кого-то из убийц работает там старший брат.
– Считаете, что это с фабрично-заводской школы бандиты? – оживился Панов.
– Или их старший брат и есть убийца.

Василий Васильевич Панов в 1940 году
4
В мае 1933-го
– Лабуткин Александр Алексеевич? – спросил врач на утреннем обходе.
– Он самый.
Высокий мужчина двадцати трёх лет в сером больничном халате сидел на койке поверх застеленного одеяла. Короткая правая рука его стояла локтем на бедре и заканчивалась толстой повязкой вместо кисти. К приходу доктора все ходячие пациенты приводили себя и постели в чинный вид – таков был порядок рабочей больницы. И хотя Лабуткин был чисто выбрит и причёсан, взгляд его выражал полное безразличие и отсутствие интереса к жизни.
– Как самочувствие?
– Лучше не бывало, – равнодушно ответил Лабуткин.
– Тогда будем выписываться, – врач кивнул медсестре, чтобы принесла из комнаты кастелянши освобождённому пациенту его верхнюю одежду. – Вас жена в приёмном покое заждалась.
В приёмном покое Маши не оказалось, но когда Лабуткин вышел на крыльцо, он сразу увидел жену. Она стояла вдалеке на дорожке больничного парка, качала плетёную коляску и стряхивала пепел в урну возле скамейки.
Светило солнце, и день обещал быть хорошим, но голова на свежем воздухе закружилась. Так он и шагнул в новую жизнь – обалделый.
Она стояла и смотрела, как он идёт к ней. Прямой, твёрдый, с рукой на перевязке поперёк груди, но какой-то другой. Что-то неуловимо изменилось в муже. Походка стала не такой упругой, а тяжеловатой, как у матёрого мужика. Перекосились на правую сторону плечи. А когда он приблизился, стало видно осунувшееся лицо.
– Курить есть? – спросил он. – Спасибо, что пришла. Здравствуй.
Маша молча достала из кармана пачку папирос «Ленинград», выщелкнула ногтем одну, протянула.
Лабуткин сжал зубами картонный мундштук, наклонился к лицу жены.

Александр Алексеевич Лабуткин в 1932 году

Мария Борисовна Лабуткина в 1935 году
– От твоей прикурю, – сквозь зубы предупредил он.
– У меня спички есть, – сказала Маша.
– Так сойдёт.
Он быстро коротко затянулся несколько раз подряд, раскурил, глубоко втянул дым во всю полноту лёгких, уже привычным жестом левой отставил папиросу в указательном и среднем пальцах, выдохнул густую струю.
– Спасибо, что заходила, – сказал Лабуткин. – Спасибо, что часто. Спасибо, что передачки носила.
– Денег не было, – огрызнулась жена. – С кем я малого оставлю?
– Всё равно спасибо.
Маша видела, что он смотрит на неё, но как бы и сквозь неё. Разговаривает с ней, но как бы издалека. Муж стал другим. С непривычки было страшно.
– Хватит кровь пить, – взмолилась она и добавила: – Я твой костюм продала.
– Габардиновый или шевиотовый?
– Оба, – помедлив, призналась она; он бы всё равно сегодня узнал.
– А отцовы?
– Отцовы давно уже продали.
– Спасибо, – не удержался Лабуткин и быстро заверил, словно извиняясь: – Деньги будут. Я на «Краснознаменец» вернусь.
– Кем? – удивилась Маша.
– Пристрельщиком, – как о чём-то само собой разумеющемся пояснил он. – Я с левой руки стреляю так же хорошо, как с правой. Меня начальство знает. Я на хорошем счету. Если что, батины друзья замолвят словечко – он на «Краснознаменце» сорок лет вкалывал. Да и меня все знают.
– Пошли, – сказала Маша.
Она покатила коляску к выходу из больничного парка, а Лабуткин пошагал рядом, но не касаясь жены.
– Как Дениска? – спросил он.
– Заснул.
– Что дома? Как мать?
– Готовится к твоему возвращению. На рынок вчера ходила.
Друзей всех оповестили твоих, да что-то не пришли они встретить, – с некоторым ожесточением добавила Маша.
– На работе, – равнодушно ответил Лабуткин.
Он жадно затягивался, выкинул окурок и снова попросил закурить.
От больницы имени Мечникова до улицы Коммуны можно было доехать на 17-м трамвае и возле пересечения проспекта Ленина с Палюстровским пересесть на 30-й маршрут, да с коляской молодым супругам показалось неудобно лазить из вагона в вагон.
– Пешком даже короче, – утешил Лабуткин. – Срежем напрямик через железку, а там рядом.
Деньги за проезд потратили на папиросы, но уже не «Ленинград» за тридцать пять копеек, а на «Пушки» 2-го сорта А за одиннадцать копеек. Лабуткины шли, и шли, и шли почти восемь вёрст по Беляевскому проспекту, скупо обмениваясь словами, как два опасливых незнакомца, вынужденных коротать дорогу вместе. Муж и жена заново привыкали друг к другу, а ребёнок катился в коляске, будто скарб изгнанников, собранный в свёрток и упрятанный на маленькой крытой тележке от посторонних глаз и невзгод.
Лабуткины жили на Пороховых в доме 95 по улице Коммуны своим хозяйством в большой крестьянской избе с хлевом и курятником. До недавнего времени дом и огород содержались в образцовом порядке, но грозили прийти в запустение без мужского участия.
Первые признаки разорения уже давали себя знать. Войдя во двор, Лабуткин кинул взгляд под навес. Дровяник опустел.
Он оборотился к жене, скорчил гримасу, с деланным весельем подмигнул:
Саня Маню полюбил,Саня Мане говорил:«Я тебя люблю,Дров тебе куплю.Дров куплю тебе три воза,А дрова – одна берёза.Жги и грейся без конца».Ламца-дримца, гоп-ца-ца!– А дрова-то все – осина, не горят без керосина, чиркай спичкой без конца, – с горечью вздохнула Маша, проталкивая коляску в калитку. – Ланца, дрица, цы, цо, ца…
– Да не журись, – трюк не удался, и Лабуткин с постным лицом затворил за ней калитку, накинул в петлю крючок, согнутый из большого гвоздя, потопал следом к крыльцу, оглядываясь и подмечая перемены в хозяйстве. Изменения не радовали.
– Огород кто копал? – строго спросил он.
– Герасимов приходил помогать.
С двоюродным братом Лабуткин не дружил, хотя вроде бы родня. Лёнька жил на Ржевке, много, как все Герасимовы, пил и часто менял работу.
Маша взяла Дениску и вошла, разувшись в сенях. Лабуткин ловко расшнуровал ботинки одной рукой. Шнурок на хвосте был теперь завязан большим узлом и, как змея, пролезал чрез все дырки, а длинный конец его надо было обмотать вокруг щиколотки и кончик с узелком пропустить под петлёй, да затянуть. Так показал ему сосед по палате, воевавший на Первой мировой и там научившийся.
Сунул ноги в войлочные шлёпанцы и, потоптавшись перед дверью, левой рукой неловко зацепил за вбитую в плахи скобу и с натугой потянул на себя. Коротко скрипнув о порог, дверь отворилась.
Дом Лабуткиных был разгорожен на две половины. В большой половине справа от двери висела на гвоздях верхняя одежда, слева от входа стояла русская печь, за нею к окну – рукомойник, бочка с водой, кухонный стол, над ними – полки. В правом жилом углу – пыльная божница с погасшей лампадкой, под ней обеденный стол, скамья, табуретки и сбоку возле перегородки – высокая железная кровать с шарами, на которой ночевала мать. Рядом с изножьем кровати в дощатую, оклеенную жёлтыми обоями перегородку была врезана двустворчатая дверь с медными ручками, крашеная белой эмалью. За ней помещалась комната поменьше, с голубенькими обоями в цветочек. В ней стоял большой сундук, шкап, низкая самодельная кровать возле окна и рядом с нею – колыбель на салазках, взятая у соседей.
Мать увидела его и заплакала.
Лабуткин замялся. Сразу захотелось курить. Он встал столбом, выжидая, пока её попустит, не предпринимая ничего сам. Когда терпение почти закончилось, мать утёрла слёзы, подошла, шаркая, бережно обняла за плечи и расцеловала в обе щеки.
– Похудел-то как…
– Наладится.
Они так и не поздоровались. Лабуткин видел её неделю назад, в отличие от Маши – недавно, по его больничным меркам, и можно было обойтись без приветствий.
Вечером после смены поздравить с выпиской пришли Кутылёв и Шаболдин, а следом за ними – Зелёный.
Зелёным его прозвали за то, что он всегда носил зелёные пальто или шинели. Первое зелёное пальтишко ему пошили в детстве, оно ему очень понравилось. Зелёный был старше Лабуткина на три года и работал в планово-экономическом отделе «Краснознаменца». Их дома стояли напротив через улицу.
Кутылёв и Шаболдин принесли по бутылке хлебного вина, а Зелёный – две. Потом зашёл сосед Никифор Иванович Трофимов с кастрюлькой солёных грибов.
На столе были картошка в мундире, квашеная капуста, чёрный хлеб и солонка. Зелёный окинул взглядом поляну.
– Скудно живёте, – сказал он, никого не стесняясь.
– Так и живём, – буркнула мать. – Даже карточки отоварить не на что.
Лабуткин молча сидел во главе стола, поставив локоть на скатерть и как бы голосуя. Поднятая рука почти не ныла. Он смотрел на гостей, словно не знал их, отстранённый от своей среды за срок больничной изоляции.
– Курить есть? – Купленные утром папиросы они с Машей успели прикончить.
– На здоровье. – Зелёный метнул на стол коробку папирос «Пушкинские». – Угощайся, шпана! – И сразу добавил, манерно поклонившись старику: – Никифор Иваныч, со всем уважением.
Ко вкусным «Пушкинским» потянулись. Зелёный любил шикануть – он был картёжник, а работяги не шиковали и курили что попроще.
Лабуткин взял со стола коробок, быстро достал спичку, закрыл, прижимая коробку безымянным и мизинцем, тремя остальными чиркнул. Спичка сломалась.
– Не мучайся, Саня, – сказал Зелёный, подавая горящую зажигалку.
– Надо учиться, – сквозь зубы сказал Лабуткин, затягиваясь. – Я левой, как правой, всё умею.
Сосед Трофимов закряхтел и посулил торопливо:
– Я тебе, Саша, зажигалку хорошую завтра подарю, у меня есть. Налажу кремень, и принесу.
– Спасибо, Никифор Иваныч, – опасаясь, что его начинают жалеть, отозвался Лабуткин, впрочем, искренне.
Мать суетилась, раскладывая еду по тарелкам. Маша в нарядной кофточке села за стол, улыбнулась пацанам и как будто задержалась на Зелёном.
Лабуткин затянулся, глядя, прищурившись, сквозь дым. Он думал, что без него Маша курила дорогие «Ленинград», тогда как вместе они купили дешёвые папиросы. Откуда у неё деньги?
Никифор Иванович разлил по стаканам.
– Ладно, Саша, здоровья тебе крепкого, и чтобы всё у вас было хорошо.
Зазвенело стекло, гости загомонили:
– Саня, с выпиской!
– Поправляйся, браток!
– Сашка, давай теперь бодрячком!
Маша не сказала ничего, а мать сморгнула слезу.
– Да я здоров, – заявил Лабуткин и опрокинул стакан. – Завтра пойду на работу.
– Ты ешь, милый, закусывай, – зачастила Маша, придвигая ему тарелку.
– Да у меня всё нормально, – заверил Лабуткин, ловко орудуя левой рукой. – Меня сейчас восстановят. Они сами в этом во всём виноваты.
– Что было-то, браток, расскажи, – спросил Шаболдин.
Основательный малый, на пару лет старше Лабуткина, он был рассудителен, крепко сшит и находился на хорошем счету у начальства. Как все, он работал на заводе «Краснознаменец» и был слесарем-разметчиком, что говорило о его высокой квалификации. Шаболдин отслужил на Балтийском флоте, не воспользовавшись бронью, которую давал оборонный завод, и знал о восстановлении на «Краснознаменце» не понаслышке.
Никифор Иванович тяжело вздохнул.
– Давайте сначала накатим, – предложил старик.
Опрокинули, отмечая возвращение из больницы как сомнительное торжество, нечто между именинами и поминками.
– Твоё здоровье, – звучал расхожий тост.
Виновник торжества подмигнул. От истощения его быстро забрало, но это было и к лучшему – придавало сил и унимало боль.
– Как у нас на «Краснознаменце» участок леса под огороды выделили, вы знаете, – быстро и напористо заговорил Лабуткин. – Деревья спилили, пни остались. И вот, когда земля оттаяла, нас на майские выделили, кто был не особо нужен в тот момент, на раскорчёвку. Дали грузовик пироксилина. Благо, его у нас как грязи, мы же сами и делаем.
– Дешевле пироксилина только люди, – кивнул Никифор Иванович.
– Добра не жалко, – согласился Лабуткин. – В общем виде: я сую шашку под пень, а она не лезет. Я её пихаю, пихаю. Вроде, втолкнул. Очнулся уже без руки. Ничего не слышу, в ушах звон. Вижу только, как люди бегают. Да и не понимаю ничего, даже боли не чувствую. Меня – в грузовик и на больничку.
– Пироксилиновая шашка – это обычно обе руки и зенки. – Никифор Иванович тоже воевал на Первой мировой.
– А у нас маленькие были, буровые, – возразил Лабуткин. – Да и пихал я одной правой.
Мама утёрла глаза платочком.
– Повезло, что сила взрыва в пень ушла, а так бы и лицо содрала, бывали случаи, – признал Шаболдин.
– Мы – здесь, – напомнила о впечатлительных женщинах Маша.
– Извините-простите, – явил галантность Зелёный.
– Баб не пугай, – сказал Лабуткин Шаболдину.
– Счастье, Саня, что легко отделался, – выступил примирителем Зелёный и набулькал водки. – Живи и радуйся жизни.
– Трижды сплюнь, – сказала мама.
Зелёный поплевал через левое плечо.
– Вы бы закусывали, что ли, – сказала мама.
– Да чем тут закусывать? – сказал Зелёный. – Колбасы нет, уж извините-простите, до рынка не дошёл.
– А мне машину дали, – заговорил тут Кутылёв, обрывая неловкость.
– О, давай, Митька, расскажи! – Никифор Иванович выцарапал из пачки «Пушкинскую» и чиркнул зажигалкой. Он смотрел на Лабуткина, угадывая, как на нём скажется чужая удача.
– Даёшь, – криво хмыкнул Лабуткин, и это послужило приказом.
У Кутылёвых был дом напротив. Митька недавно вернулся из рядов Красной Армии, где служил в автобате, и перешёл в транспортный цех. По сравнению со срочкой – на повышение.
– Рассказываю. Дали набор «Сделай сам». Раму от «Форда» и мотор. Сказали, соберёшь машину и будешь на ней ездить. Тогда карточки как шофёру выдадут и зарплату станут начислять солидную, по рейсам.
– Давай тебе поможем.
– Ты себе-то помоги, – сказала Маша.
– Завтра я пойду на завод и восстановлюсь. Дело решённое! – упрямо заявил Лабуткин и качнул короткой рукой.
5
Легкотрудник
Не было ничего, кроме дождя. Загребая разбитыми ботинками слякоть, он шёл домой, не понимая, зачем теперь возвращаться. Подошва отставала, и он шаркал ею, чтобы нарочно нагрести в штиблет побольше грязи, как в детстве.
– Ну, ты чё? – встретила Маша.
– Ничё. Курить есть?
Он сел в сенях на махонькую, чугунного литья табуреточку и остался так, не желая показываться на глаза матери.
– Ну, чего там? Восстановили?
– Да ничего. Сходил… за хлебушком. Обратился к мастеру, а он – ничего не знаю, и отправляет меня в отдел кадров. Я – туда. А кадровик пропуск отобрал. Места тебе, говорит, у нас нету, а на комбинате найдётся. Позвонил, выписал переводную бумагу.
Завтра пойду устраиваться.
– Рука, – спросила Маша, – болит?
– Я на больничном сидеть не стану, – сказал Лабуткин. – У меня карточки по литере «А» всегда были. Я завтра наниматься пойду.
– На химзавод?
– А что делать?
– Хочешь, я подработаю, – сказала Маша.
– Подрабатывала уж без меня. Что я, не вижу?
– Я ничего.
– А с Зелёным?
– Наговариваешь на меня, – сказала Маша и надула губы, обхватив руками живот.
– Не завидую. Не злюсь. Бортанули меня, суки, – Лабуткин встал, поморщился, сел з— акружилась голова. – Из-за руки. Я с левой стрелять умею. Сними с меня башмаки.
Жена опустилась на корточки и принялась раздёргивать шнурок, закрученный вокруг щиколотки.
Голова её поднялась между колен мужа.
– Хочешь? – быстро шепнула она.
– Да.
Он закусил зубами нижнюю губу и прокусил. Всё было больно. Стреляло в руке, и даже заболела голова. В глазах помутилось. Жена старалась. Она умела быть вёрткой.
– Я вся твоя, – повторяла она, всё чаще и чаще.
– Не верят, суки, – шептал он окровавленными губами.
* * *За стеной заводского двора «Краснознаменца» начинался двор Охтинского химического комбината, на котором делали пироксилин и, немного изменив технологию, – целлулоидных пупсов, уточек и прочие погремушки.
Старый кадровик с участием смотрел на сидящего перед ним насупленного мужчину с рукой на косынке, и старался приободрить:
– Найдётся для вас место, Александр Алексеевич. – Он слышал о несчастном случае на майских праздниках, а теперь видел героя и его документы – трудовая книжка и больничный лист дополняли картину. – Пойдёте по категории легкотрудников. Там всё предусмотрено. За ночную смену доплата.
– Годится, – сказал Лабуткин.
– Анкету сами сможете заполнить?
– Справлюсь. Я левой, как правой.
Кадровик подал ему разграфлённый лист и остро заточенный химический карандаш. Лабуткин ловко выводил буквы левой рукой – корявые, но разборчивые. Только буквы складывались в слова с большой натугой. Заметно было, что писал он нечасто.
Сопя от напряжения, вчитываясь в формулировки анкеты и поминутно мусоля во рту карандаш не столько ради чернил, а сколько от смущения, Лабуткин осилил анкету.
– Сойдёт?
Дома он задумал порадовать мать, и на свою первую смену собирался как на праздник.
Мать, однако же, едва не всплакнула.
– Рука-то… болит? – голос её дрогнул.
– Нет, – сказал он.
– Как же ты с ней пойдёшь? Оклемался бы, сыночек.
– Так и пойду. Что теперь, голодать?
– А швы вскроются?
– Вскроются – больничный дадут, – отрезал Лабуткин.
Настроение как корова языком слизнула.
Потекли летние ленинградские недели – светлые ночи и мрачная жизнь.
От котельной Химкомбината, в которой стояли бойлеры, производящие пар высокого давления, тянулись к корпусам тоннели. Лабуткин по ночам обходил линии паропроводов, осматривал, не травит ли на стыках, снимал показания с манометров на редукционных клапанах, понижающих давление пара на местах ввода в отопительную сеть здания, и записывал результаты в журнал. Привычная шестидневка с восьмичасовой сменой больше не трогала его. Он привык вставать по заводскому гудку, по заводскому гудку идти на обед, но теперь режим дня кардинально изменился. По новому графику он заступал с восьми вечера до восьми утра, а следующую ночь проводил дома.
Работа была простая, но несладкая. Если соблюдать расписание, осматривать линию приходилось практически всю смену с небольшими перерывами. Общая протяжённость тоннелей оказалась приличной.
Лабуткин не спал. Дорожил местом и строил планы. Гордость не позволяла прослыть разгильдяем, перекрывая даже чувство ответственности за семью. Он отсыпался днём и помогал матери с хозяйством. Молодой и крепкий организм обладал значительными резервами. Враз не потратишь.
Денег меж тем не хватало. На теплоцентрали жизнь пошла незавидная. Тут не то, что новый костюм не купишь, а старый продашь. Маша начинала ворчать и грозилась выйти «подработать».
Лабуткин верил ей и опасался, но не измены, а что наградит дурной болезнью, как уже случалось. О папиросах «Ленинград» он тоже помнил. Таких они больше не курили.
Однажды, возвращаясь со смены, он увидел на дороге монетку. Проявляя некоторую медлительность и бессвязность мысли после бессонной ночи, Лабуткин остановился, не решаясь поднять. Он с детства не подбирал обронённых денег. Отец мог отвесить за это хорошего леща, а устроившись на «Краснознаменец», Лабуткин и сам почувствовал пролетарскую гордость. Уважение окружающих стало для него чрезвычайно важным. Но сейчас его карманы были пусты. Он больше не получал карточек самой лучшей категории снабжения. Он был легкотрудником с грошовой зарплатой, на которую требовалось как-то содержать мать, жену и маленького ребёнка с продуктовыми карточками иждивенцев.
Инвалид без копейки денег.
Лабуткин быстро огляделся (на него никто не смотрел) и поднял монетку.
Это был пятак, потемневший, но не грязный. «Смотри, – как бы говорил он. – Я такой же, как ты, битый, мятый, но ещё годный. Думал, что ты – молодой и блестящий? Нет. Ты теперь не блестящий. Прими меня как должное и иди себе».
Лабуткин положил пятак в карман и пошёл домой.
6
Мотор
Грузовичок «Форд ТТ» был ровесником Революции. Сейчас от него остались рожки да ножки.
– Вот уродец, – сказал Зелёный.
– Будет ездить! – заверил Кутылёв.
Грузовичок представлял собой удлинённую версию легковой модели Т с более прочной рамой и усиленной задней осью, но всё равно оставался таким миниатюрным, что деревянная кабина, в которой с трудом умещались два человека, выглядела несуразно большой по сравнению с мизерным капотом и куцым кузовом.
– Чего ещё надо? – отрешённо произнёс Лабуткин.
Друзья стояли в гараже завода «Краснознаменец» и рассматривали, что Митька смастерил из набора «Сделай сам», о котором так горячо распинался.
На первый взгляд, это была рама на колёсах с мотором. Снятые кабина, сиденье и кожух двигателя стояли возле стеночки. Было бы чрезвычайно смелой попыткой допустить, что конструктор когда-нибудь превратится в машину, которая зарычит и тронется с места.
Никто из стоящих перед ней сейчас не надеялся, что она далеко уедет. Даже начальник транспортного цеха не предполагал, что она повезёт груз, но всё-таки поручил молодому шофёру на свой страх и риск собрать из хлама грузовичок. Если получится, машина на предприятии не будет лишней. Не получится – рукастый малый дождётся другой, а пока поработает автомехаником.
Кутылёв не унывал. Он не выходил из гаража и вроде бы преуспел в своём деле.
– Колёса дали, – указывал он стёртые протекторы, обтянувшие обода с покрашенными вручную спицами. – Не новьё, но вполне приличные.
– Будет ездить? – переспросил Зелёный с недоверием.
– Поедет, – тряхнул патлами Митька. – Мотор капитальный ремонт прошёл. Потянет на все двадцать лошадей! Карбюратор со склада получил… почти новый. А кузов я сам сколочу. Доски и краску дадут.
– Ты маякни, когда соберёшься, мы поможем запилить, – сказал Зелёный, который никогда руками не работал.
– Не забуду, – кивнул Митька.
Зелёный похлопал его по плечу, и они вышли из боксов. Лабуткин поправил шляпу и сплюнул с самым критическим выражением на лице.
Зелёный достал портсигар.
– Серебряный? – спросил Митька.
Зелёный хмыкнул.
– Где надыбал? – спросил Лабуткин.
– В терц выкатал, – самодовольно ухмыльнулся Зелёный и протянул раскрытый портсигар. – Угощайся, братва.
Все охотно угостились. Папиросы у него всегда были самого лучшего качества.
Отошли с территории автопредприятия подальше к забору, с удовольствием дымили на свежем воздухе, сплёвывали в траву, мечтательно поглядывали наверх, будто пытались высмотреть в небе счастье.
Лабуткин соображал, какого чёрта притащил его в гаражи Зелёный? А Митька? Митька бесполезный зачем ему понадобился? Прежде Зелёный якшаться с ним не желал, а тут прилип как банный лист, да ещё навязался помочь.
– Аккумулятор бы достать, братва, – выдыхая дым, промолвил Кутылёв. – Движок ручкой еле заводится. Магнето старое, искры нет совсем.
– Что за аккумулятор? – немедленно заинтересовался Зелёный.
– Батарея электрическая, – объяснил Митька.
– Ну, ты академик!
– Именно фордовский нужен? – лениво спросил Лабуткин.
– Любой.
– Хм, – Зелёный пожал плечами. – Нароем что-нибудь.
– Благодарю, пацаны, – обрадовался Кутылёв. – Обяжете.
– Давай, Митька, успехов в труде! – Зелёный похлопал его по плечу. – Не прощаемся.
Пролезли через дыру в заборе и по тропинке вышли на дорогу к рабочим предместьям.
– Поможем Митьке с аккумулятором, – плотно ступая, Зелёный держал руки в карманах хвойной расцветки шерстяного пиджака и слегка горбился, голова при каждом шаге моталась вперёд, и это придавало говорящему зловещий вид, будто он выплёвывал каждое слово в бездну. – Надо ставить машину на ход.
– Тебе-то понту? – спросил Лабуткин. – На кой тебе евонный шарабан? Девок катать?
Он засмеялся, а Зелёный глянул искоса, не сбавляя шага, прикинул что-то и ответил:
– Понимаешь, Саня, шмаровоз я найду для личных целей, – Зелёный снова принялся смотреть под ноги и заговорил совершенно серьёзно: – А вот держать под рукой грузовик может быть весьма полезно.