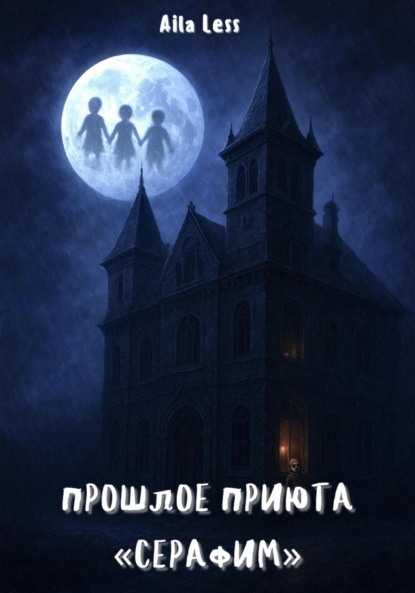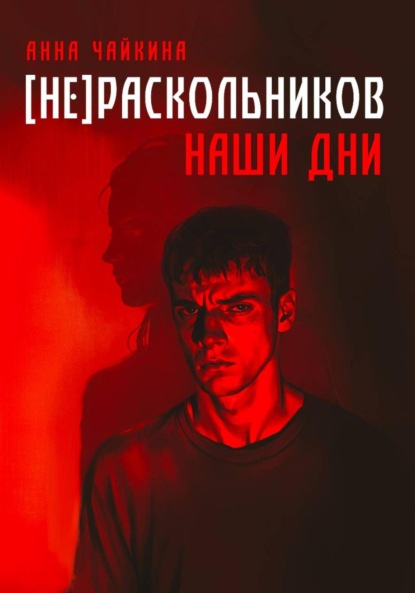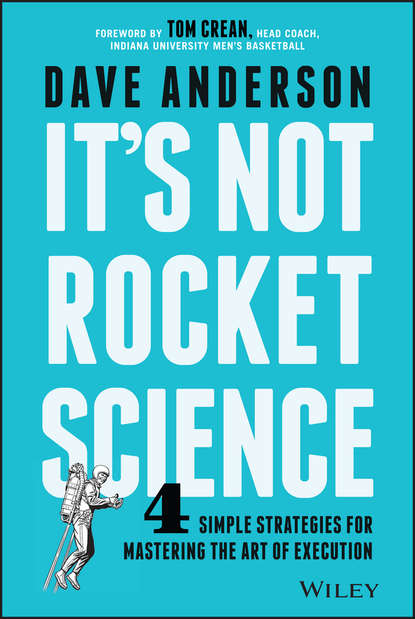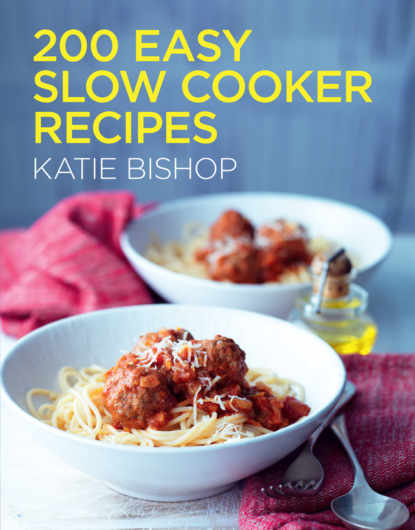Лицо Казанской национальности. Книга вторая

- -
- 100%
- +

Мурад Аджи: «Кумыки – тоже татары»
Нет, пожалуй, более путаного вопроса, чем вопрос о татарах России – кто они?
Тема, вокруг которой веками спорят: спорят этнографы, историки, политики. Простые люди тоже не скупятся на высказывания…
И никто не слышит друг друга.
Для меня эта тема обрела особую актуальность недавно, после поездки в Казань, где в здании Всемирного конгресса татар была моя встреча с читателями. Обсуждали новую книгу «Тюрки и мир: сокровенная история». Я смотрел на аудиторию и дивился, удивляли глаза и лица собравшихся, их неравнодушные, нарочито резкие суждения, которые, признаюсь, доставляли мне тайную радость… «Они не татары, самые настоящие кумыки», подумал я. У нас одинакова даже манера спора…
Действительно, что отличает татарина от кумыка? Язык? Антропология? История? Мы будем молчать, и все равно поймём друг друга – надо иметь слишком тонкий слух, чтобы отличить кумыкскую речь от татарской. Она практически неотличима. Я смотрю на себя в зеркало, чем не татарин? Внешне мы, кумыки, точно такие же, как татары: среди нас преобладают голубоглазые, светловолосые, чуть скуластые лица. Это, конечно, не означает, что мы все такие. Нет. Есть тёмные, с точёными лицами, таковых больше в Южном Дагестане. Видимо, давно подметив это отличие, народ наш условно делит себя на южных кумыков и северных кумыков. Хотя история такого деления не признает. Потому что тюрки появились в Европе в конце III века, когда берегов Итиля достигла волна Великого переселения народов, которых вёл хан Акташ, наш легендарный герой.
Поразительно, что народный эпос у кумыков запечатлел те же исторические эпизоды, что и у татар. Не отличается. Мы одинаково прославляем героя, одними словами! Впрочем, чему удивляться, религия тогда у нас была одинаковой. Предки хранили веру в Тенгри, поклонялись Умай, за преданность вере их называли «ханифами». Теперь у нас ислам, в котором сохранилась древняя традиция Единобожия.
Можно бы разобрать народные праздники и традиции, но и в них нет различий… И тогда с новой силой встаёт вопрос: кто есть мы? Или что отличает татар от кумыков?
Я никогда не коснулся бы этого вопроса, если бы не та встреча в здании Всемирного конгресса татар. Мне с тех пор кажется, что Конгресс не полно выполняет своё предназначение. Он работает не на весь народ! А так нельзя, другие ныне времена на дворе.
…Если бы я не был географом, то не знал бы, что Итиль впадал в Каспийское море не там, где ныне. Устье этой реки (Волги) прежде уходило на юг, ближе к Кавказским горам, но в середине Х века случилась природная катастрофа, она-то и разделила Итиль. Река около нынешнего Волгограда нашла новое, более короткое русло и устремилась по нему. Такое в истории планеты случалось не раз.
Об этой катастрофе я узнал по снимкам из космоса, на них хорошо видно старое русло. Полоска озёр указывает на него. Помню, меня охватил восторг, вызванный тем, что я, таким образом, открыл столицу Хазарии, легендарный Семендер, его археологи искали в районе Астрахани, искали, не зная, что Итиль в хазарские времена впадал в Каспий совсем в другом месте…
Следовательно, столица Хазарии километров на триста-четыреста южнее! Так и есть.
Лишь врождённая тюркская лень не позволила мне закрепить за собой это открытие, оставалось-то взять авторучку и написать статью, а я откладывал, искал случая и дождался. Дагестанские археологи открыли Семендер, правда, с другой стороны. Они, рассчитав путь от Дербента по числу конных переходов, пришли в хазарскую столицу. Но я не обиде ни на них, ни на свою лень, она открыла мне другое, более ценное – кумыки и татары братья по крови, утверждаю я теперь. Мы люди одной реки! Одной истории! Природная катастрофа разделила нас. Мне стало понятно, почему до прихода русских на Кавказ, то есть до середины XIX века, нас называли кавказскими татарами.
Не верится? Тогда обратитесь к кавказским страницам творчества Льва Толстого, Лермонтова, Пушкина, там говорится именно о татарах. Не о кумыках. Известно, что Толстой пытался выучить татарский язык, когда начал писать повесть «Казаки». Я совсем иными глазами читал лермонтовскую «Беллу», после того как узнал, что события в повести развивались около нашего родового селения Аксай, где до сих пор стоят руины крепости Ташкечу, где служил Печорин. Фантастика, татарка Белла – моя родственница.
Когда узнаёшь подобное, история читается совершенно по-другому, она становится родной… Именно эта мысль пришла на ум после посещения Всемирного конгресса татар, и я подумал: «Почему забылись кавказские татары? И можно ли без них называть конгресс Всемирным?».
Дальше больше: я вспомнил научные книги. В 1948 году в Советском Союзе вышла книга А. А. Новосельского «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века». Солидная академическая монография, там масса фактов, и очень часто, едва ли не через страницу в отдельных главах встречаются словосочетания, которым автор придавал строгое этническое звучание: «белгородские татары», «донские татары», «рязанские татары», «тульские татары» и другие татары, которые обитали в Центральной России… Куда делись они?
Вспоминаю своё удивление, когда будучи в Орле, я впервые узнал, что все старинные кладбища в городе называют татарскими. Русские кладбища появились здесь только в XVIII веке. Это ли не факт, заставляющий задуматься над тайнами истории России и над сиротством, вернее, узостью кругозора казанских татар: создавая Всемирный конгресс, они не потрудились заглянуть в историю своего народа. Кроме Булгарского каганата уже давно ничего не видят. Стыдно.
Господа, откройте географическую карту допетровской поры: там южнее реки Оки отмечено огромное государство Татария. Оно тянулось до самого Кавказа. Его население говорило по-тюркски. До сих пор здесь в иных селениях не забылась татарская речь, хотя население обращено в славянство. А это – ваши братья по крови! И числом они в несколько раз больше, чем татары Татарстана, объявившие о Всемирном конгрессе татар.
Запомнились, буквально врезались мне в память слова, прочитанные в записках Антиохийского патриарха Макария, когда он ехал в Москву в 1654 году. В Калуге греческий патриарх пересел на судно и до Коломны плыл по Оке. «Справа от нас, на расстоянии месячного пути (до Кавказа) была страна татар…» И далее: «На границе страны татар, что справа от нас, богохранимый царь (Алексей) выстроил тридцать крепостей…»
Эти сведения согласуются с географией России XVII века, с положением её южных границ, но никак не согласуются с казанской этнографией, которая в упор не видит татар, их истории и своего будущего.
Сказ о Гайше-бике, которая и в огне не горит, и в плен не сдается
Мифы живучи, как тараканы. Как ни выводи их на яркий свет истины, все равно прячутся по тайным закоулкам души, внося сумятицу в нашу жизнь. Мы до сих пор живем в мире предрассудков, мифов и легенд. Однако справедливости ради следует сказать, что народные предания часто бывают и полезны, помогая историкам реконструировать прошлое. Каких только сказок не сохранила народная молва о возникновении Казани!
Наиболее популярными, по мнению доктора филологических наук, профессора Фатыха Урманчеева, были "Повесть о несгораемой царевне" и особенно рассказ о двух булгарских царевичах Алим-беке и Алтын-беке, перенесших столицу Волжской Булгарии к берегам Казанки…
Есть реальные исторические факты, и есть живая память предков, которые часто вступают в противоречие друг с другом. Народная память, пусть искаженная и мифологизированная, – тоже реальность, оказывающая на людей ничуть не меньшее воздействие, чем конкретные исторические события.
Кто скрывался за зловещей кличкой Аксак Тимура – Хромого Тимура? Тамерлан, Едигей, Тимур-Булат, Батый?.. И был ли такой хан вообще? Историки продолжают спорить. А между тем на этой легенде выросло не одно поколение. Ученые в один голос клеймят Аксак Тимура – разрушителя северной Мекки мусульман, священного Булгара. Но народные предания не столь категоричны. Да, хан был жесток, Булгар сжег дотла, не щадя стариков и детей. А за что? "А за то, – говорит легендарный Аксак, – что вы перестали поклоняться Аллаху!"
Профессор Фатых Урманчеев проводит параллель с другим грозным завоевателем – Атиллой, перед которым склонился даже гордый и самонадеянный Рим. Европейцы до сих пор проклинают "жестокого варвара", хотя римляне тогда восприняли нашествие гуннов совсем по-другому: как "бич Божий", которым Господь решил покарать алчных патрициев за их нечеловеческое обращение с рабами.
Легенд и сказаний о разрушении Булгара Аксак-ханом и чудесном спасении детей булгарского царя Габдуллы, построивших потом новую столицу Иске Казан, или Булгар аль-Джадид, – предостаточно. Правда, сведения, содержащиеся в них, весьма противоречивы. К примеру, по одним данным Иске Казан (Старая Казань) просуществовала 100, по другим – 150, по третьим – 300 лет, после чего город был перенесен к Зилантовой горе, где находится и по сей день. Непонятно также, когда все-таки был сожжен Булгар? "Татарские летописи" называют три даты: 1300, 1349 и 1397 годы. (Но кто тогда скрывался под псевдонимом Аксак Тимур? Историки считают, что Тамерлан или его отряды разрушили Булгар в 1395 году).
О рождении Хромого Тимура легенда повествует туманно.
Однажды падишаху приснился дурной сон. Придворные звездочеты растолковали его так: "Женщина по имени Марфуга родит ребенка, который, став взрослым, должен тебя убить, о, великий хан!" Трусливый властитель, проснувшись, приказывает найти и избить беременную Марфугу, но так, чтобы она осталась жива, а плод погиб. Слуги, как водится, перестарались: забили несчастную до смерти. Однако роженица вдруг оживает и производит на свет уродца, колченогого и с перебитой рукой, к тому же слепого на один глаз. Такого иначе, как Хромой Тимур, и не назовешь. Несмотря на увечья, мальчик рос чрезвычайно дерзким и бойким. Рано оставшись сиротой, он нанялся пастухом к богачу. А вскоре стал предводителем разбойничьей шайки, потом – и ханом. Как в известной пословице: если украл овцу – вор, если царство – государь.
По таким скудным полумифическим данным трудно идентифицировать историческую личность. Известный археолог Альфред Халиков был уверен, что события, описываемые в легенде о разрушении Булгара Аксак Тимуром, анахроничны, то есть на самом деле они происходили раньше, не в XIV, а, возможно, в XIII веке. Историк Равиль Фахрутдинов прямо увязывает их с нашествием отрядов Батыя. Но все эти хронологические неувязки и несовпадение второстепенных деталей для нашего исследования не важны. Живая память народа развивается по своим законам, и нам интересно понять их логику. Поэтому, не обращая внимания на разночтения и нестыковку разных преданий, постараемся проследить лишь за их общей линией.
Как свидетельствуют предания, Хромой Тимур, взяв Булгар, сравнял его с землей и устроил в городе кровавую резню. Царь Габдулла со своей семьей скрылся в Судной палате. Захватчики обложили палату бревнами и подожгли. Царевна Гайша была не только изумительно красива, но и необычайно умна. Господь не мог допустить, чтобы такая чудесная девушка погибла. Когда палата сгорела, Аксак Тимур увидел сидящую в белой одежде красавицу, целую и невредимую – огонь ее даже не коснулся…
Потрясенный хан увез Гайшу и ее младшего брата Шейн-бека в далекий и сказочный Самарканд. Когда Аксак Тимур умер, пленники перешли в услужение его сыну. Как-то во время царской трапезы Шейн-бек разбил дорогую посуду, за что ему хотели отрубить голову. Порядки в ханском дворце были просто лютыми! Однако умная и хитрая Гайша сумела вымолить для своего брата прощение, а потом вместе с ним смогла убежать и из плена.
Когда беглецы вернулись на родину, с удивлением узнали, что их братьям Алтын-беку и Алим-беку тоже удалось спастись. Приближенные Габдуллы-хана, опасаясь, что царский род прервется, укрыли семи- и девятилетнего наследников в лесу. К возвращению сестры братья успели подрасти и основать новую столицу – город Казан (сегодня существуют только его остатки – Камаевское городище, входящее в историко-культурный заповедник "Иске Казан" в Высокогорском районе).
Гайша-бике вышла замуж за полководца своего брата Алтын-бека – муллу Хазея (в данном случае слово "мулла" указывает не на духовный сан, а используется как знак уважения). Видимо, именно этот воин спас братьев Гайши и построил новый город. Однако, как потом выяснилось, построил не совсем удачно – на высоком холме. Женщинам было очень неудобно носить из реки воду в город. Подняться на 80 метров по крутому склону трудновато даже с пустыми ведрами. Поэтому люди стали одолевать правителя просьбами о переезде в другое, более удобное место. Выбор пал на Зилантову гору, где, согласно уже другой легенде, обитал Аждаха – "змей велик и страшен о дву главу", изображение которого впоследствии украсило герб Казани. (Как показывают современные археологические исследования, к этому времени здесь уже давно стояло городское поселение, но мифы и исторические факты не всегда согласуются друг с другом.)
Иске Казан (Старая Казань) простояла более сотни лет, а народная молва ее перенос на новое место почему-то опять связывает с красавицей Гайшой. Якобы именно она, вняв просьбам женщин, изнуренных мучительным подъемом тяжелых ведер с водой, уговорила хана на переезд. Вот что значит магия священного имени! Гайшой, как известно, звалась любимая жена пророка Мохаммада (мир ему и его семье!), и она считается "матерью всех мусульман". Царевна, носящая такое имя, конечно же, должна быть заступницей правоверных и проводником всех богоугодных дел.
Могила "несгораемой царевны", расположенная вблизи деревни Татарская Айша, так же как и могила ее мужа муллы Хазея, сегодня считается святой и является объектом поклонения местного мусульманского населения.
Сама же деревня Татарская Айша входит в территориальное подчинение Иске-Казанского совета местного самоуправления и, как одно из древних исторических поселений, находится под охраной государства.
Поэта Кул Гали считали «святым аулией»
Кул Гали не был коренным казанцем. Доподлинно известно, что он подолгу жил в обеих столицах Волжской Булгарии – Биляре и Болгаре, а также в Алабуге, Нур-Суваре и древнем городе Кашане, не путать с Казанью (отсюда псевдоним – Кул Гали Кашани)… Но наверняка он бывал и в Казани, уже в те годы – в конце XII- начале XIII веков – набиравшей силу, чтобы через сто лет стать новой столицей под названием "Болгар аль-Джадид" ("Новый Болгар").
Если бы Кул Гали ничего в своей жизни не совершил, кроме того, что написал свою замечательную поэму "Кыса-й Йусуф" ("Сказание о Юсуфе"), он все равно бы вошел в историю. Его имя стоит в одном ряду с такими известными стихотворцами Востока, как Омар Хайям, Хафиз, Низами, Алишер Навои, Шота Руставели… Весь мир чествовал в 1983 году (800-летний юбилей) Кул Гали именно, как великого поэта, внесшего яркую жемчужину в фонд мировой культуры.
Вдумайтесь, уже 840 лет назад в Итиле (на Волге) процветала такая высокая культура, о которой знают во всем мире. Но некоторые безграмотные обыватели не стесняются называть ее "аульной культурой"! Хотя проживают в Казани и наверняка слышали, что в 1020-летней столице Татарстана есть улица и мечеть имени Кул Гали.
Аллах им судья…
Подлинник поэмы до нас не дошел, но сохранились многочисленные списки. Произведение Кул Гали построено на коранических и библейских образах, берущих начало в ассирийско-вавилонских преданиях II (второго!) тысячелетия до н.э.
"Международный сюжет" о прекрасном Юсуфе (об Иосифе Прекрасном) хорошо известен как на Востоке, так и на Западе, – возможно, еще и этим объясняется такая необычайная популярность бессмертной поэмы Кул Гали. Главная ее идея – стремление создать справедливое общество, осуждение распрей, призыв к миру. Если учесть, что книга была написана и стала широко распространяться в период нашествия Батыя, станет ясно, насколько актуальной она тогда была.
Впрочем, ею зачитывались и последующие поколения,
Поэма, написанная на кыпчакско-огузском варианте старотюркского литературного языка (литреатурное тюрки), дала толчок развитию всей тюркской поэзии. Турок Хамза, узбек Дурбек и многие другие средневековые мастера художественного слова считали Кул Гали своим учителем.
Однако Кул Гали был знаменит, причем еще при жизни, не только тем, что умел красиво и складно складывать слова в рифмованные строки. Практически вся его жизнь пришлась на времена диктаторского правления как местных правителей, так и пришлых. На это время приходятся и ужасная нищета народа, и непомерные налоги, и кровавые междоусобные распри. Величие и мощь этого царства тогда, как позже при Иване Грозном и Петр I в России, строились на крови и костях своих подданных. Тем не менее, находятся историки – и таких, надо заметить, большинство, – оправдывающие любую жестокость при создании жесткого централизованного государства. Хотя история многовариантна, в ней почти всегда есть выбор, "жесткие государственники" непременно порождают "демократическую оппозицию". К ней мы можем причислить и Кул Гали.
Главным противником диктаторского курса выступало братство "Эль-Хум", созданное в Биляре. Ныне разрушенный Биляр – вторая столица Волжской Булгарии, с ее белокаменными дворцами, мечетями и минаретами, централизованным водопроводом и общественными банями превосходила по размерам тогдашние Париж и Рим.
Членами братства были в основном шакирды (студенты) университета "Мохаммад-Бакария", известного во всем мусульманском мире. У местной знати это заведение имело дурную репутацию из-за чрезмерного, как им казалось, сочувствия простому люду. Как поучал один сановный вельможа своего сына: "Если ты побываешь в его стенах, не сможешь стать хорошим правителем".
В братстве "Эль-Хум" верховодила воинствующая группа "Амин", символом которой был алп (дух) Карга – грач. Поэтому аминовцев называли "грачами", которые вынашивали план свержения "злого правителя" и воцарения вместо него "доброго", сочувствующего идеям братства.
Поначалу все шло по плану. Бунтовщики освободили 300 пленников, захватив зиндан (тюрьму) "Шайтан Бугаз". Мятежники вышли на улицы и стали грабить дома "билемчеев" – чиновников, собиравших налоги. Когда правитель собрался бежать из столицы, ему навстречу попался сеид Мирхуджа – отец Гали, преспокойно расхаживающий по мятежному городу.
– Разве ты не покинешь Биляр вместе со мной? – спросил его эмир.
– Цари могут бежать и возвращаться, но улемы всегда должны быть вместе с народом, – последовал ответ.
Кул Гали тогда было 10 лет, он с детства впитал свободолюбивый дух братства "Эль-Хум" и всю свою жизнь посвятил воплощению несбыточной в общем-то, как учит вся мировая история, мечты – созданию Царства Добра и Справедливости на своей земле. "Грачи" не собирались сдаваться, плетя один заговор за другим. Поступив в "Мохамад-Бакарию", Кул Гали становится активным членом братства "Эль-Хум". Вместе с другим шакирдом – отпрыском царствующей династии Мир-Гази (несмотря на косые взгляды родителей, дети правителей все же поступали в столь нелюбезный их сердцу университет) – он стал руководителем аминовцев.
Старые летописи рассказывают об арском бунте начала XIII века, который докатился до крупных городов – Кашана, Мартюбы и Алабуги, где восставшие в клочья изорвали книгу Гали о Юсуфе. Поистине, крестьянский бунт – бессмыслен и беспощаден! Кул Гали тогда сидел в тюрьме, его освободили и жестоко избили. Сторонники муллы стали уговорить, чтобы он "ради веры и державы" стал кашанским сеидом – один из ключевых духовных постов в тогдашнем государстве. Восстание в очередной раз было утоплено в крови, но просвещенного муллу простили.
– После того, как пострадал от голытьбы, надеюсь, ты больше не будешь ее защищать? – задали ему вопрос.
– "Добрый царь" вначале посадил меня на цепь неволи, а "злые язычники" ее разорвали, – ответил Кул Гали.
Похоже, с этого момента глава суфийского братства пересмотрел свои взгляды и полностью отказался от насильственных методов, но не от борьбы.
Не исключено, что сожжение книги было организовано самими властями. В сказании о Юсуфе есть стих, где доказывается необходимость перехода власти от старшего брата к младшему, как к более мудрому и справедливому. Подозрительный правитель усматривал здесь намек на тогдашнюю ситуацию в Булгаре: у него были младшие братья, один из них симпатизировал "грачам", и тоже мог претендовать на царский престол. Поэтому, когда книгу о Юсуфе восстановили, в ярости ее растоптали и приказали схватить автора, как зачинщика смуты.
Но сделать это было не так просто. Несмотря на то, что Кул Гали публично заявил об отрешении от какой бы то ни было власти, от светской и духовной, мулла реально влиял на события, происходящие в государстве. Авторитет его был очень высок! Благословения знаменитого муллы добивались и знатные вельможи, и простые люди. Дома, где он останавливался, объявлялись святыми и превращали в мечети – "Отуз", "Дервиш Гали"… Сам Гали тоже считался аулией, то есть святым и неприкосновенным.
Узнав о том, что его собираются арестовать, мулла тихо произнес слова, которые вмиг разнеслись по всей державе:
– Тот, кто переправится через Агидель (Каму), – утонет.
Охотников испытывать судьбу не нашлось: все знали, что Гали зря слов на ветер не бросает. Правда, нашелся один отчаянный смельчак – не ведающий страха сардар Гуза. О том, что с ним стало, – говорить, наверное, излишне. Да, его отряд накрыло беспощадной камской волной.
Мир-Гази – университетский товарищ Кул Гали – помог опальному поэту скрыться от гнева жестокого эмира: сначала отвез в Булгар, а оттуда отправил с торговым караваном в Хорезм.
Но там его уже поджидал другой завоеватель, еще покруче местного. Как пишут летописи, "вождь татар" Чингиз-хан вторгся в Хорезм.
В древних тюркских государствах власть часто менялась от одной царствующей династии к другой. Но их поданные, народ по языку, крови, традициям, вере был один и тот же – это был тюркский или татарский народ.
Вот как об этом писал английский профессор Паркер:
«Я уже в «China Review, vol. XX» довольно долго доказывал, что … скифы, гунны и тюрки были различными стадиями исторического развития одних и тех же племен; затем Шавань, Хирт и другие авторы более детально исследовали данную проблему».
Паркер называл все эти тюркские племена одним собирательным названием – Татары.
Булгарское государство тоже входило в систему тюркских империй, являясь одним из развитых культурно-экономических центров. Казанский историк 19 века Хусаин Амирхан, пересказывая рукопись 17 века хивинского хана Абул Гази "Родословная Татар", приводит сюжет, в котором говорится, что город Булгар основал один из потомков Татар-хана, старшего брата Мунг-хана (его неправильно стали называть вместо "Мунга" – "Монголом", отсюда и пошло нелепое словосочетание "монголо-татары").
Так что, согласно древним летописям, в жилах грозных завоевателей Батыя и жителей Булгара текла одна и та же кровь их общего предка Татар-хана. И первых, и вторых поэтому смело можно называть Татарами.
Но так часто случается в истории, что самые жестокие войны возникают между самыми близкими родственниками.
Булгарскому эмиру не откажешь в прозорливости и политической хитрости. Он сразу понял, что имеет дело с грозным соперником, и через купцов вышел на связь с его сыном Джучи, владевшим кыпчакской частью Татарии. Джучи был не доволен доставшимся ему в правление уделом и хотел владеть Персией и Хорезмом. Эмир обещал Джучи помощь в обмен за нейтралитет по отношению к Волжской Булгарии. Однако тайный сговор вскоре стал известен в ставке Чингиз-хана.
Чингизиды считали себя господами всего мира. Что им до какого-то опального поэта Гали, который, спасаясь от захватчиков, скитался вместе с кочевниками по степи! Оймеки (кочующие племена – предки казахов), узнав, что беглец – сказитель, не выдали его чингизидам. Все степняки любят песни, они думают, что сказители могут говорить с Небом, и потому – святые. В благодарность Кул Гали сложил для них несколько красивых баитов, которые, возможно, и сегодня исполняются в степных аулах.
Некоторые считают, что именно после того, как попал к кочевникам, мулла Гали стал называть себя "кулом" – "рабом". Однако летописи утверждают другое: мулла так стал называть себя в Алабужской (Елабужской) тюрьме "в знак сочувствия угнетенному народу". Есть еще одна версия: приставку "кул" к своему имени Гали сделал по примеру суфийского шейха Кул Яссави, которого считал своим учителем.
Какой бы бескрайней ни была степь, новости доходят и до нее. Однажды Кул Гали получил отрадную весть: эмир умер, а правителем Волжской Булгарии стал его друг Мир-Гази. Тогда Булгария вела войну с кочевниками и захватила в плен большой отряд оймеков. Явившись во дворец к эмиру, Кул Гали потребовал их освобождения и немедленного снижения налогов для всего податного населения. Как неудивительно, эти требования были тут же выполнены – казалось, наконец-то, стала осуществляться идея-фикс мятежного муллы о Царстве Добра и Справедливости на древней земле Итиля (Волги). Однако все надежды рухнули после того, как эмир внезапно заболел и умер, возможно, не без чьей-то помощи. И все вернулось на круги своя.