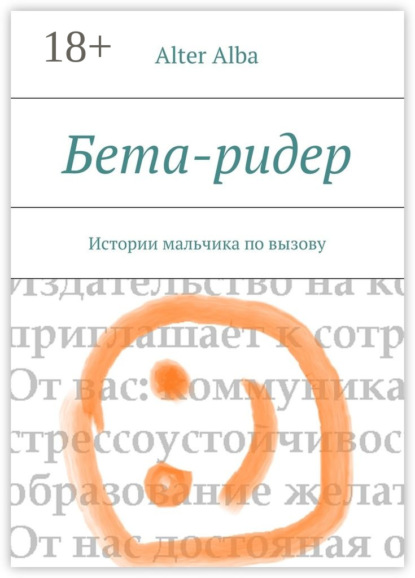- -
- 100%
- +
– Сколько их было?
– Трое.
Он кивнул. Медленно встал. Вышел со мной во двор. Сел на лавку.
– Боль – это не враг. Боль – учитель, – сказал он. – Если сегодня убежал, завтра бежать будешь всю жизнь. Понял?
Я кивнул. Глотал слюну. Глаза – горели от обиды.
– Верни магнитофон, – сказал он. – Не один. Но верни. Или не возвращайся.
Он не кричал. Не бил. Только смотрел. И я понял – это не угроза. Это закон.
Тем вечером я пошёл обратно. Нашёл их. Один получил камнем. Второй – ногой в живот. Третий убежал. Магнитофон я забрал. Руки дрожали. Зубы стучали. Но я шёл обратно – не ребёнком. Мужчиной. Хоть и маленьким.
Вечером я оказался в карцере. Один.
Губы были разбиты. Пальцы ныли так, будто в них загнали гвозди. Всё тело гудело – как будто горело изнутри, под кожей.
Но впервые за долгое время – внутри было тихо. Не светло, не тепло, не спокойно – просто тихо.
Не было победы. Не было триумфа. Но я не сдался. Не лёг. Не позволил вытереть себя об пол. А значит – я был жив. И если кто-то ещё решит подойти – дважды подумает.
Я не стал сильным. Но больше не был прозрачным.
Когда меня вернули в общую, мир выглядел так же, но ощущался иначе. Те же нары. Те же лица. Те же стены, покрытые пятнами плесени и запахом сырости. Но что-то в воздухе изменилось. Не резко, не явно – как будто тень, что висела на мне, вдруг исчезла.
Лао Ю сидел в углу с перевязанной рукой. Ни разу не взглянул. Не потому что боялся – потому что теперь я был не ниже.
Остальные поглядывали. Не с уважением – с интересом. Как на мертвого, который вдруг встал и пошёл.
Впервые ко мне подошёл Чжоу. Тихий старик. Сухой, будто вырезанный из коры. Глаза – как у степного хищника. Он протянул мне миску с рисом.
– Ты в порядке, – сказал он, голосом, будто листья шуршат в октябре. – Это главное. Если можешь дать сдачи – значит, ты не мёртв.
Я кивнул. Не знал, что сказать. Да и не нужно было.
С тех пор ко мне не лезли. Не здоровались, не зазывали в свои игры. Но и не толкались, не отнимали еду, не наступали на ноги. Я больше не был призраком. Я стал частью. Грубым, неприкасаемым, но живым элементом этой тюрьмы.
И только позже понял, как изменился. Я больше не сутулился. Не прятал глаза. Шёл ровно. Мышцы болели, но тело чувствовалось не болью – а наличием.
Я всё ещё боялся. Но страх перестал быть цепью. Он стал инструментом. Он не приказывал сдаться – он предупреждал: «Смотри в оба».
ЯЗЫК КАМНЯ
Сначала я просто слушал. Сидел на нарах, спиной к стене, и ловил обрывки слов. Китайский язык звучит как сломанная музыка – будто кто-то крутит старую плёнку в обратную сторону. Он был рваным, хлёстким, звонким, как стекло под ногами. Но если прислушаться – в нём появлялся ритм. Повторы. Интонации. Тени смысла.
Первые слова, которые я понял, были «еда» и «быстрее». Их бросали охранники, выкрикивали зеки, шептали по углам. Эти слова были простыми, как команды. Но за ними пряталась сила. Понимание. Спасение.
Я впитывал их, как пыль в лёгкие, как цемент в трещины. Медленно. Тяжело. Но глубоко.
Однажды ко мне подсел парень. Темнокожий, с короткими дредами, тонкий, как проволока. Позже я узнал – Жан-Поль. Из Гаити. Голос – с хрипотцой, глаза настороженные, но не враждебные.
– You from… Kazakhstan? – спросил он с лёгкой усмешкой, будто проверяя: живой ли я вообще.
– Kazakhstan, – кивнул я.
– Haiti. Drugs too?
Я выдохнул. Кивнул снова. Он усмехнулся – коротко, без радости. Как будто сказал: «Ну понятно. Мы тут все по одной статье».
Он начал учить меня – с пальцев. По-детски. Счёт до десяти, потом простые слова: «вода», «спать», «друг», «боль». Мы шептались вечерами, когда тюрьма замирала и слышно было, как капает вода из старых труб.
Каждое слово было шагом. Как будто я медленно выцарапывал себя из ямы, куда сам и прыгнул.
Я начал царапать иероглифы мелом на стене у койки. Мелкие, неуклюжие каракули. Но это был мой код. Моё сопротивление. Мой якорь.
Я всегда думал, что язык – это просто слова. Но в тюрьме язык стал бронёй. Если ты не понимаешь, чего от тебя хотят – ты мясо. Если можешь ответить хоть двумя словами – ты уже не совсем животное.
Я продолжал учить. Повторял про себя. Шептал в темноте, когда никто не слышал. Пальцем выводил иероглифы на запотевшем стекле. В этом было что-то детское, упрямое. Что-то живое.
Жан-Поль смеялся, когда я путал тоны. Вместо «вода» говорил «мама». Вместо «спать» – «умереть».
– С такой дикцией, брат, тебя точно не выпустят, – шептал он с кривой ухмылкой.
Но я не сдавался. Хватался за слова, как утопающий за корягу. Я не верил, что они меня спасут, но знал: без них – точно утону.
И в эти тихие, сосредоточенные вечера приходила мама. Невозможно было вызвать её специально. Она просто появлялась – как запах хлеба или тёплый ветер из прошлого.
Я вспоминал, как она гладила меня по голове, когда болел. Как говорила шёпотом, склонившись: «Ұлым, ешқашан өтірік айтпа. Өтірікші болма. Сол кезде ғана жүрегің таза болады». («Сынок, никогда не лги. Не будь лжецом. Только тогда сердце будет чистым». )
И в такие моменты я вспоминал, кто я. Не зэк. Не курьер. Не просто тело в серой камере. Я – её сын. И я – живой.
Однажды Жан-Поль показал мне, как пишется моё имя по-китайски. Он взял обломок деревянной ложки и начертал на полу: 阿斯兰 – Āsīlán.
Я смотрел на эти три символа и чувствовал: я всё ещё существую. Пусть даже только здесь. За стенами. В пыли. В тишине. Но я есть.
ЖИВАЯ КОСТЬ
Его называли «Красный». Не из-за волос – они были чёрные, как нефть. А из-за глаз. Налитые, бешеные, злые. Местный авторитет в блоке. Тощий. Пальцы нервные. Голос – как скрип ржавой двери. Его боялись все. Даже охранники.
Он не трогал меня. Сначала. Только смотрел. Иногда высыпал мой рис в унитаз. Иногда хлопал по затылку, как собаку. Я молчал. Все молчали. Потому что мы были мясом. А мясо не имеет голоса.
Пока он не ударил старика. Тихий дед. Лет шестьдесят. Кашлял по ночам. Молился на каком-то языке. Никому не мешал. Просто сидел у стены.
Ударил без предупреждения. Без слов. Просто ногой в живот. Старик сложился пополам и рухнул, как мешок с костями.
Я встал. Не подумал, а просто встал. Как будто тело знало само.
– Ещё раз тронешь – сломаю тебе руку, – сказал я. Медленно. С акцентом. Но громко. Чтобы услышали все.
Красный повернулся. Удивление. Потом – ухмылка. Глаза – как нож. Он сделал шаг ко мне.
– Повтори, – прошипел. – Повтори, обезьяна.
Я ударил первым. Он не ожидал. Я – тоже. Удар получился неловкий, но тяжёлый. Его голова дёрнулась. Он отшатнулся, и сразу врезал мне в скулу. Боль – звонкая, как выстрел. Я врезал в ответ. Мы сцепились как собаки. Упали. Кровь. Крики. Плевки. Пол из бетона – скользкий, мокрый. Нас растащили поздно. Но успели.
Карцер. Цемент. Ведро. Влажный потолок, где даже капли боятся падать.
Я не чувствовал рук, ног и лица. Только гудение в ушах. Как будто внутри работал двигатель. Но в груди что-то встало. Щёлкнуло. Не страх. Не гордость. Скорее – ось. Будто кто-то вставил в позвоночник железный штырь. Прямо и надолго.
Я не знал, простит ли меня Бог. Но точно знал – теперь я не сломаюсь.
Когда меня вернули в блок, Жан-Поль посмотрел, пожал плечами:
– Maintenant, tu es des nôtres (Теперь ты один из нас).
Старик кивнул. Ни слова. Ни улыбки. Только взгляд – тихий, живой. И больше он никогда не кашлял по ночам.
А Красный больше не трогал меня, да и других старался не задевать. Не потому что испугался. А потому что понял: я – не мясо. Я – живая кость.
Я вспоминал отца редко. Он не был мягким. Не был словесным. Учил не разговорами – поступками. Но однажды он сказал то, что я не забыл. Тогда мне было лет десять. Мы ехали на рыбалку, рано утром, в старой «Ниве» в тишине.
Он сказал:
– Жігіт деген кім екенін білесің бе? (Знаешь, кто такой джигит?)
Я пожал плечами. Он посмотрел вперёд, чуть прищурился от света.
– Жігіт деген – әлсізді қорғайтын адам. Жай адам емес. Ер адам. Егер сенің қасыңда біреуді ренжітсе, үндемей өтсең – сен де ренжіттің деген сөз. (Джигит – всегда защитник. Не простой человек. Мужчина. Если кого-то рядом обижают, а ты промолчишь – значит, и ты обидел.)
Я тогда не всё понял. Но его голос был твёрдый, как рука на руле. И я знал: эти слова – не просто слова. Это – то, что нужно запомнить. Как будто он вложил в меня камень.
– Мужик – это тот, кто стоит за слабого. Не орёт, не лезет. Но в нужный момент поднимается. Даже если страшно, – добавил он уже более твердо.
МАМА
После отбоя к решётке подошёл охранник. Лицо у него было, как кирпич – неподвижное, квадратное, без эмоций.
– Аслан.
– Я.
– Почта.
Он швырнул внутрь помятый конверт. Жёлтый, чужой, исписанный печатями и подписями. Адрес – корявым русским шрифтом: «Китай. Провинция Гуандун…».
Я узнал почерк сразу. Мамин. Родной.
Пальцы дрогнули. Я сел в угол под мутным потолочным светом.
Конверт пах… домом, лекарствами, летом.
Внутри письма не было ни слова о боли, о диагнозах, о судьбе. Ни жалоб. Ни отчётов. Только строки – как дыхание издалека:
«Я верю в тебя. Ты не плохой. Просто попал не туда. Ты сильнее, чем думаешь. Аслан – значит „лев“. Не забывай это. Я жду».
Я закрыл глаза. Что-то сжалось внутри – не в животе, не в груди – в памяти. Словно мама дотронулась до меня через письмо. Тихо, осторожно.
…Мы стояли с ней на кухне. Я был пацаном – лет десять. За окном моросил дождь, стекло в тонких струях, как слёзы. Она резала лук и вдруг сказала, не глядя:
– Знаешь, Аслан, даже когда мир рушится – человек не должен рушиться сам.
Я тогда не понял. Просто кивнул. А она вытерла руки о фартук, взъерошила мне волосы и улыбнулась.
– Ты у меня сильный. Молча всё вынесешь. Но внутри не ожесточайся.
Она обняла меня, прижала к себе. От неё пахло жареным тестом, лекарствами и теплом.
Я снова заплакал. Не как в карцере – от холода, боли, голода. А по-другому. Тихо. Без всхлипов. Просто текли слёзы. От того, что кто-то внутри… дышал. Оттого, что впервые за долгое время мне захотелось не просто выжить, а жить. По-настоящему.
Мама, я не святой. Я ошибся. Оказался в чужой стране, в чужой системе. Без языка. Без связи. Без прав. Я стал пылью, которую можно смести в угол. И никто бы не спросил – а где он?
Но я остался человеком внутри. Не потому что был сильным. Потому что выбора не было.
СТЕКЛО И СТАЛЬ
Я учился не как студент. Как зверь. На боли. На молчании. На взглядах, в которых нет ни капли надежды.
Слушал. Запоминал. Проглатывал унижение – и вставал. Каждый день. Снова и снова.
Каждое утро пахло тухлой водой, хлоркой и железом. Каждая ночь – тишиной, от которой сходят с ума.
Шаги охраны в коридоре. Щелчок замка. Крик кого-то в соседнем блоке. Потом тишина – густая, вязкая, как смола.
Я засыпал человеком. Пусть сломанным. Пусть грязным. Но человеком.
На первом месяце я пережил всё. Оскорбления. Насмешки. Плевки в еду. Кто-то пытался обоссать мои ботинки, пока я спал. Один ударил в живот, когда проходил мимо – просто так.
Я не отвечал. Сжимал зубы. Смотрел в пол.
Я не был трусом. Я копил.
Они думали – я прогнусь. Но я гнулся, как дерево в ураган – чтобы не сломаться.
И я начал писать. В голове, в памяти, в воздухе. Про каждый день. Про страх. Про то, как впервые за много лет я начал уважать себя – не за успех, а за то, что выжил и не прогнулся.
Писал, потому что боялся забыть, кем был. Потому что знал: если я забуду – меня больше не будет.
Писал, чтобы однажды кто-то это прочитал. И понял: я был жив.
Я не становился сильнее. Я становился твёрже. Как вода, что застыла в лёд. С каждым днём внутри появлялся слой, как кольца у дерева. Один – от боли. Второй – от молчания. Третий – от первой вытерпленной обиды. Пока не стал корой. Грубой. Тихой. Стойкой.
Через месяц я уже понимал команды охраны. Через два – начал отвечать. На китайском. Коряво. Но уверенно.
Иногда охранники посмеивались. Но уже не как раньше – не с издёвкой. А будто уважая.
Один из них – молодой, с ожогом на щеке – однажды бросил мне словарь.
– Ты быстро схватываешь.
Я даже не сразу понял, что это без насмешки.
Это было первое нормальное предложение за два месяца, сказанное мне тут.
Потом кто-то из них протянул тетрадь. Без слов. Я понял: «Продолжай».
Я писал. Мелко, в уголках, под строчками. Не текст – ритм. Свои кости. Свои шрамы.
В казарме меня больше не трогали. Не как мякиша – уже как кость.
Однажды охранник оставил мне хлеба больше, чем другим. Молча. Я ничего не сказал. Просто взял.
Победа – это не гром. Это крошка хлеба в мёртвой тишине.
А Жан-Поль, проходя мимо, бросил:
– Ты стал как сталь. Только не забудь, зачем ковали.
Я не забуду.
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
Письмо пришло с утра. Конверт был тонким. Почерк – чужой. Я уже знал: если не мать – значит, что-то не так.
Внутри лежала короткая записка. От тёти.
«Мама ушла. Во сне. Без боли. Она тебя простила. И ждала до конца».
Я не почувствовал ничего. Сначала. Просто сидел. Читал. Снова. И снова. Буквы уплывали, но я держал их взглядом. Словно если отпустить – исчезнет последнее, что связывало нас.
В камере стояла тишина. Даже те, кто раньше усмехался, – молчали. Кто-то смотрел в сторону. Кто-то – вниз. Даже охранник, проходя мимо, не сказал ни слова.
Я встал. Сделал сто отжиманий. Потом – сто приседаний. Каждое движение било в грудь. Руки дрожали. Внутри жгло. Но я продолжал. Ещё. Ещё. Пока мышцы не начали предавать.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.