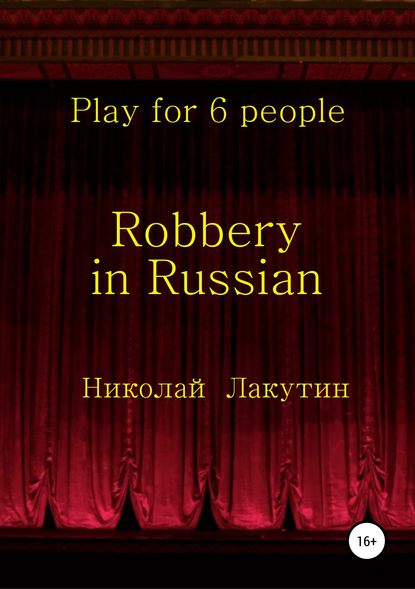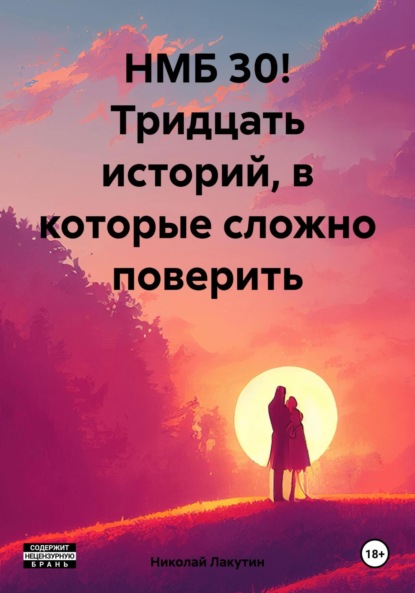- -
- 100%
- +
Первый акт этой цифровой мистерии – обнаружение и экспозиция скверны. В древности скверну могли обнаружить по знамениям – неурожаю, мору, рождению уродца. В цифровую эпоху роль шамана-диагноста берут на себя бдительные пользователи социальных сетей, активисты, журналисты-расследователи. Они выискивают следы греха в цифровых архивах. Старый твит, запись в блоге, комментарий на форуме, фотография с вечеринки в неудачном костюме, фрагмент десятилетней давности из стендап-выступления, цитата из интервью – все это становится уликой. Скверна материализуется в виде скриншота, гифки, видео-клипа. Этот артефакт извлекается из контекста (времени, иронии, частной беседы, художественного вымысла) и предъявляется публике в новом, осуждающем контексте. Сам акт публикации этого материала с разоблачительным комментарием есть начало ритуала. Это первый клич, призыв к общине обратить внимание на осквернение. Важно, что скверна воспринимается не как личное мнение или ошибка, а как нечто объективно вредное, «токсичное», заражающее публичное пространство. Носитель скверны (политик, актер, музыкант, писатель, ученый, рядовой блогер) в этот момент еще может не подозревать, что над ним уже занесен ритуальный нож. Но для инициаторов ритуала он уже не человек, а сосуд, в котором обнаружена опасная субстанция, подлежащая нейтрализации.
Второй акт – мобилизация общины и провозглашение анафемы. Одинокий крик должен стать хором. Обнаруженная скверна начинает распространяться по социальным сетям. Механизмы ретвитов, шеров, сторис, хештегов работают как система ритуальных труб, оповещающих племя о беде. Хештеги (#cancel[имя], #[имя]IsOverParty) выполняют роль сакральных кличей, маркирующих поле битвы и призывающих сторонников. Формируется нарратив. Конкретный человек редуцируется до одного проступка, одной фразы, одного образа. Его сложная личность, заслуги, контекст совершенного – все это стирается. Он становится чистым символом того зла, с которым борется сообщество – расизма, сексизма, гомофобии, трансфобии, эйблизма. Его имя становится нарицательным для греха. На этом этапе звучит призыв к «отмене». Анафема провозглашается открыто. «Отменить» – значит разорвать все социальные и профессиональные связи с этим человеком, сделать его имя ядовитым для брендов, работодателей, издателей, продюсеров. Призывы адресуются не к самому нарушителю (диалог с оскверненным невозможен), а к третьим сторонам – к компаниям, с которыми он сотрудничает, к университетам, где он преподает, к медиа-платформам, которые его размещают. Логика проста и архаична – кто продолжает контактировать с оскверненным, сам становится оскверненным. Табу распространяется по цепочке контактов. Цель – создать вокруг нарушителя санитарный кордон из страха и бойкота, полностью изолировать его от социального организма. Язык на этом этапе насыщен лексикой, заимствованной из юриспруденции и медицины, но использующейся в магическом ключе. Нарушителя «призывают к ответу», его поведение «вредно и токсично», он должен «нести ответственность». Это создает видимость правового процесса, но на деле это процесс сакральный, где обвинение само по себе является приговором, а доказательством служит сам факт наличия скверны (скриншота).
Третий, центральный акт – публичная казнь репутации и ритуальное изгнание. Если мобилизация прошла успешно, начинается фаза непосредственного воздействия. Под давлением хейта, угроз бойкота, страха за собственную репутацию институции начинают отрекаться от оскверненного. Ритуал проходит быстро, часто в атмосфере паники и желания «откреститься» как можно скорее. Работодатель увольняет сотрудника. Издатель разрывает контракт и изымает книги. Кинокомпания откладывает или отменяет релиз фильма с его участием, вырезает сцены. Университет отзывает приглашение на лекцию. Музей снимает его работу с выставки. Платформа (Twitter, YouTube, Spotify) удаляет его аккаунт или понижает его в алгоритмах. Это и есть акт «отмены» – символическое (а часто и вполне материальное) лишение человека его социальной роли, статуса, источника дохода, голоса. Его профессиональная идентичность публично сжигается на цифровом костре. Этот процесс обладает всеми признаками ритуального убийства. Жертва стигматизируется, лишается защиты сообщества, затем подвергается насильственному исключению. Иногда это сопровождается дополнительными унижениями – требованиями публичного покаяния, которое, впрочем, редко принимается, ибо скверна считается слишком глубокой. Изгнание должно быть тотальным. Оставшиеся в сообществе наблюдают за казнью и испытывают коллективный катарсис. Зло наказано, скверна изгнана, границы дозволенного вновь четко очерчены и укреплены. Сообщество чувствует себя сплоченным, морально очищенным и сильным, доказавшим свою способность вершить правосудие без посредничества архаичных и не заслуживающих доверия институтов вроде судов. Чувство праведного гнева находит выход, трансформируясь в чувство праведного торжества.
Четвертый акт, не всегда явный, но крайне важный – это коммеморация и закрепление нового табу. После изгнания скверны ритуал не заканчивается. Его итог должен быть зафиксирован, а урок – усвоен. История отмены становится поучительным примером, который цитируется и вспоминается в похожих ситуациях. Имя «отмененного» превращается в предостерегающий символ, в «страшилку» для остальных. «Помнишь, что случилось с Х? Не будь как Х». Это закрепляет новые нормы поведения и речи, делает их сакральными через демонстрацию ужасных последствий их нарушения. Ритуал также порождает своих героев – тех, кто первым обнаружил скверну, кто был самым громким в ее обличении. Их статус в сообществе растет. Таким образом, ритуал изгнания служит не только для очищения от конкретной скверны, но и для постоянного воспроизводства и укрепления морального авторитета самой группы, ее права устанавливать и охранять границы дозволенного. Он становится механизмом социализации, показывая новым членам сообщества, что ценно, а что нет, и какая судьба ждет непокорных.
Однако, как и любой архаический ритуал, цифровая анафема несет в себе глубокие внутренние противоречия и опасности. Во-первых, он основан на редукции человека к одному поступку. Сложная, многогранная личность сводится к роли козла отпущения, на которого проецируются все грехи и тревоги сообщества. Нет места для раскаяния, эволюции взглядов, контекста, человеческой ошибки. Это мышление, характерное для охоты на ведьм, где обвинение равнозначно вине. Во-вторых, ритуал часто обходит стороной принцип соразмерности. За старый, глупый твит человек может лишиться карьеры, построенной десятилетиями. Наказание перестает соотноситься с проступком, оно становится сакральным актом искупления, где жертва должна быть значительной, чтобы умилостивить гнев богов (в данном случае – коллективную совесть сообщества). В-третьих, он создает атмосферу страха и самоцензуры. Художники, писатели, ученые, да и просто люди, высказывающиеся публично, начинают заранее фильтровать свои мысли, боясь, что любая неоднозначная фраза может быть вырвана из контекста и использована для их ритуального уничтожения. Это вредит творчеству, интеллектуальной смелости и открытой дискуссии. В-четвертых, ритуал легко поддается манипуляциям. Его можно использовать для сведения личных счетов, конкурентной борьбы, устранения неугодных под благородным предлогом защиты уязвимых групп. И наконец, самый главный парадокс заключается в том, что, борясь за социальную справедливость методами, заимствованными из арсенала самых темных, догматических и нетерпимых практик человечества, движение рискует воспроизвести те самые структуры тоталитарного исключения и моральной паники, против которых оно, казалось бы, выступает.
Таким образом, ритуал изгнания скверны в цифровую эпоху предстает как мощный, амбивалентный и тревожный феномен. С одной стороны, он является закономерной реакцией на реальные проблемы – на историческое и продолжающееся угнетение, на безнаказанность сильных, на распространение hate speech. Он дает голос и силу тем, кто раньше его не имел, позволяя маргинализированным группам привлекать внимание к несправедливости и требовать accountability. С другой стороны, в своем нынешнем виде он слишком часто скатывается в архаическую, магическую практику поиска козла отпущения, где сложные социальные проблемы пытаются решить через символическое уничтожение отдельной личности, где торжествует логика табу и скверны, а не логика права, диалога и исправления. Это ритуал, который очищает сообщество, но оставляет после себя выжженную землю – испорченные жизни, атмосферу страха и новую, цифровую форму остракизма, которая по своей тотальности и беспощадности может превзойти любые древние аналоги. И пока мы, вооружившись скриншотами вместо факелов, выходим на цифровую охоту за ведьмами, стоит помнить, что в пламени этого костра сгорает не только предполагаемая скверна, но и сама возможность человеческого понимания, прощения и сложности, без которых подлинно справедливое общество построить невозможно. Мы возродили древнейший ритуал, не спросив себя, хотим ли мы жить в мире, который этот ритуал порождает – в мире, где ошибка равносильна скверне, а прощение считается слабостью, в мире, управляемом не законом, а праведным гневом толпы, направляемым через алгоритмы социальных сетей.
§29. Слова-призраки и тирания благих намерений
В эпоху тотальной цифровой прозрачности и вечного архива каждое произнесенное слово обретает потенциальное бессмертие. Оно может быть записано, скриншотировано, индексировано, извлечено из глубины лет и предъявлено миру в новом контексте, как приговор. Это порождает уникальный культурный феномен – существование так называемых слов-призраков. Это слова и выражения, которые формально еще не запрещены, не включены в официальные списки ненормативной лексики, но уже несут на себе невидимую печать опасности. Их произнесение или написание чревато непредсказуемыми последствиями. Они витают в языковом пространстве как призраки – их нельзя трогать, на них нельзя указывать, их лучше обходить стороной, ибо они могут оказаться ловушкой, миной замедленного действия, заложенной в прошлом и ждущей своего часа, чтобы взорваться в настоящем. Эти слова-призраки являются прямым порождением ритуала публичной анафемы и тотальной эвфемизации языка. Они формируют невидимую, но от того не менее реальную карту запретных зон в публичном дискурсе, где даже невинное, по мнению говорящего, высказывание может быть интерпретировано как акт агрессии, умаления или воспроизводства вредных стереотипов. За каждым таким словом-призраком тянется шлейф исторических коннотаций, потенциальных обид, ассоциаций с дискуссиями, которые уже были проиграны в социальных сетях и где был вынесен коллективный вердикт – «это слово проблематично». Так возникает состояние хронической лингвистической паранойи, особенно среди тех, кто стремится соответствовать высочайшим стандартам политкорректности. Говорящий оказывается в положении человека, идущего по минному полю, где карта мин постоянно меняется, а саперы из числа наиболее бдительных пользователей сети готовы в любой момент указать на его ошибку с беспощадностью инквизиторов, обнаруживших ересь. Эта тирания благих намерений – стремления никого не обидеть, быть инклюзивным, прогрессивным – оборачивается новой формой несвободы, где страх перед ошибкой в слове парализует мысль, упрощает язык, выхолащивает дискуссию и создает атмосферу всеобщей подозрительности.
Возникновение слов-призраков напрямую связано с феноменом перманентной и ускоренной моральной паники, характерной для эпохи социальных сетей. Каждую неделю, а иногда и каждый день, в информационном пространстве вспыхивает новый скандал, связанный с обнаружением «токсичного» контента в прошлом какого-либо публичного лица. Эти скандалы выполняют функцию публичных педагогических процессов. Они не просто наказывают конкретного человека, они демонстрируют всем остальным, какие слова, образы, темы являются запретными в данный исторический момент. Общество учится через наглядные примеры наказания. После того как известного актера «отменяют» за старую шутку про определенную этническую группу, любая шутка на похожую тему, даже необидная, становится рискованной. После скандала с писателем, использовавшим устаревший термин для описания людей с инвалидностью, этот термин превращается в призрака – его боятся использовать даже в нейтральном или академическом контексте, опасаясь, что их обвинят в «нормализации вредного языка». Таким образом, граница допустимого постоянно смещается, и вчерашний нейтральный термин сегодня может оказаться на грани запрета, а послезавтра – под полным запретом. Этот процесс не имеет централизованного управления, он происходит стихийно, через коллективные действия множества активистов, блогеров, журналистов и просто возмущенных пользователей. Но его эффект тотален. Никто не может чувствовать себя в безопасности, ибо правила меняются ретроактивно. То, что было приемлемо десять, пять или даже два года назад, сегодня может стать основанием для профессиональной и социальной смерти. Слова-призраки – это и есть те самые слова, которые еще не успели попасть под однозначный запрет, но уже попали в зону турбулентности, где их использование – это игра в русскую рулетку.
Это порождает особый феномен – эффект «края» допустимого высказывания. Публичные люди, корпорации, медиа-институции, стремясь обезопасить себя, начинают практиковать превентивную самоцензуру. Они отказываются не только от заведомо оскорбительных выражений, но и от любых высказываний, которые могут быть хоть как-то истолкованы как спорные. Язык публичной сферы становится стерильным, предсказуемым, наполненным клише и эвфемизмами, лишенным остроты, иронии (ибо ирония слишком опасна для неправильного прочтения), сложных метафор и рискованных сравнений. Происходит «сплющивание» дискурса. Политики говорят заранее написанными, проверенными юристами и пиарщиками шпаргалками. Корпоративные коммьюнике звучат как перевод с языка добрых намерений на язык максимальной осторожности. Даже художественная среда, всегда бывшая территорией экспериментов и нарушения границ, начинает ощущать давление. Писатели и сценаристы боятся создавать сложных, морально амбивалентных персонажей из уязвимых групп, чтобы не быть обвиненными в стереотипизации. Комедийные шоу теряют зубы, ибо любая шутка за чужой счет теперь может быть расценена как буллинг. Вместо этого процветает юмор, направленный вовнутрь сообщества или вовсе лишенный какой-либо социальной остроты. Этот процесс можно назвать «тиранией уязвимости», когда право не быть оскорбленным или даже не испытывать малейшего дискомфорта при прослушивании чужого мнения возводится в абсолют и начинает доминировать над другими ценностями – свободой творчества, интеллектуальным риском, сложностью мысли, правом на заблуждение и даже правом на глупость. Слова-призраки служат маяками, ограждающими это расширяющееся море уязвимости, предупреждая – здесь опасно, здесь можно наткнуться на боль другого, и эта боль, будучи публично предъявленной, уничтожит тебя.
Особенно ярко эта динамика проявляется в академической и интеллектуальной среде, которая исторически была пространством для проверки границ, для споров, для провокативных гипотез. Сегодня многие ученые и преподаватели в западных университетах (а тенденция постепенно распространяется и на другие регионы) признаются, что они избегают определенных тем в своих курсах – вопросов, связанных с биологическими основами пола, сравнительных исследований культур, критического анализа идеологий, если эта критика может быть направлена против левых движений. Они боятся не только открытого скандала, но и жалоб студентов, которые могут обвинить их в создании «небезопасной атмосферы» в классе. Студенты, в свою очередь, усваивают, что некоторые темы табуированы, и могут требовать «триггер-предупреждений» перед обсуждением классической литературы, содержащей сцены насилия или расистские пассажи. Сама идея университета как места, где сталкиваются разные, в том числе и неприятные, идеи, подвергается эрозии. На смену ей приходит модель «безопасного пространства», где главная цель – не бросить вызов мышлению студента, а защитить его эмоциональное благополучие. Слова-призраки здесь играют роль стражей этого благополучия. Они маркируют те зоны знания, куда лучше не соваться, ибо там можно встретить не истину, а боль, а встреча с болью считается сегодня большим злом, чем встреча с заблуждением или даже ложью, если эта ложь произнесена корректным, инклюзивным языком.
Парадоксальным образом тирания благих намерений, стремясь к максимальной инклюзивности и искоренению дискриминации, часто производит новые, более тонкие формы исключения. Создается новый класс «жрецов языка» – активистов, экспертов по diversity and inclusion, консультантов по неосознанной предвзятости, которые обладают монополией на интерпретацию того, что есть добро, а что зло в сфере дискурса. Они формулируют правила, следят за их исполнением и выносят приговоры. Их авторитет основан не на официальных должностях, а на моральном капитале, на принадлежности к угнетенным группам или на демонстрации абсолютной лояльности их интересам. Простые люди, не посвященные во все тонкости быстро меняющейся терминологии и идеологических нюансов, оказываются в положении вечных грешников, которые всегда рискуют сказать что-то не то. Это порождает не искреннее уважение к другим, а показную, ритуальную осторожность, когда люди говорят не то, что думают, а то, что, как они надеются, защитит их от обвинений. Искренний диалог становится почти невозможным, ибо он требует риска, требует возможности ошибаться, быть непонятым, спорить. Вместо диалога мы получаем обмен ритуальными формулами, за которым часто скрывается глухое взаимное непонимание и раздражение. Слова-призраки служат барьерами на пути такого диалога, напоминая, что некоторые темы лучше не затрагивать, некоторые вопросы лучше не задавать, ибо цена вопроса может оказаться непомерно высокой.
В конечном счете, культура, порожденная тиранией благих намерений и населенная словами-призраками, рискует оказаться культурой страха, а не культурой уважения. Уважение рождается из понимания, из признания сложности другого человека, из готовности простить ему ошибку и самому быть прощенным. Страх же рождается из угрозы тотального, несоразмерного наказания за малейший промах. Когда публичное пространство регулируется логикой охоты на ведьм, где любое слово может быть использовано как доказательство колдовства, люди перестают быть искренними. Они начинают жить двойной жизнью – публичной, где они произносят только безопасные, отфильтрованные фразы, и приватной, где их реальные мысли и чувства, возможно, совсем иные. Это ведет к глубокому социальному лицемерию и отчуждению. Мы строим мир, в котором внешне все корректно и благопристойно, но под этой тонкой коркой политкорректности бурлят непроговоренные обиды, страх и взаимное недоверие. Слова-призраки – это симптом этой болезни. Они указывают не на здоровое развитие языка, который всегда был живым, меняющимся организмом, а на его болезненную гиперчувствительность, на его травму. Язык, напуганный собственной силой, пытается съежиться, стать меньше, незаметнее, чтобы никого не задеть. Но язык, лишенный смелости, лишенный возможности называть вещи своими именами, даже неприятными, – это язык, который отказывается от одной из своих главных функций: не только созидать гармонию, но и ставить неудобные вопросы, бросать вызов, исследовать темные уголки человеческого опыта. И пока мы позволяем словам-призракам диктовать нам, о чем можно и нельзя говорить, мы добровольно заковываем себя в кандалы новой, мягкой, но от того не менее эффективной тирании – тирании тех, кто уверен, что знает, как нужно говорить правильно ради нашего же блага, и не остановится ни перед чем, чтобы заставить всех говорить на этом новоязе, где призраки прошлого управляют настоящим и угрожают будущему любой живой, непредсказуемой, а значит, и potentially опасной мысли.
§30. Демон, которого действительно призывают
Каждый ритуал, даже самый благонамеренный, особенно самый благонамеренный, несет в себе риск непредвиденных последствий. Магия, как учит нас фольклор, – дело опасное. Духа, которого призывают для защиты, бывает трудно контролировать, и он может обернуться против самого заклинателя. В случае с современными ритуалами чистоты речи, публичной анафемы и создания безопасного языкового пространства этот риск реализуется с пугающей последовательностью. Демон, которого призывают искоренить – демон нетерпимости, дискриминации, социального насилия – зачастую не изгоняется, а лишь меняет свою форму, становясь сильнее и изощреннее. Борьба за лингвистическую чистоту, начавшаяся как средство достижения социальной справедливости, рискует выродиться в самоцель, создавая мир, где внешняя корректность становится важнее внутренней честности, где правота определяется не силой аргумента, а чистотой биографии говорящего, а сам дискурс о равноправии и инклюзивности производит новые, более глубокие расколы. Ирония ситуации заключается в том, что чрезмерный, ригидный и догматичный акцент на языке и символах как на главном поле битвы за справедливость зачастую отвлекает внимание от материальных условий, воспроизводит атмосферу тотальной подозрительности и, в конечном итоге, усиливает поляризацию и непрозрачность, которые были теми самыми демонами, с которыми изначально пытались бороться. Таким образом, ритуал очищения, призванный исцелить общество, может отравить его новым ядом – ядом морального превосходства, страха и циничного лицемерия, где искренний разговор о реальных проблемах становится невозможен, так как все силы уходят на символические войны за слова, за правильные жесты, за чистоту намерений, выставленную напоказ.
Одним из наиболее очевидных и разрушительных побочных эффектов является усиление социальной поляризации. Ритуал «отмены» и постоянный поиск языковых нарушений работают как машина по производству «своих» и «чужих». Граница между этими группами проходит не по идеологическим или политическим убеждениям в широком смысле, а по степени соответствия быстро меняющемуся набору догм о допустимом языке и поведении. Те, кто не успевает за этими изменениями, кто допускает ошибку в термине, кто задает «неправильный» вопрос, мгновенно маркируются как враги, как часть «проблемы». Диалог с ними прекращается, ибо они «непросвещенные», «реакционные» или просто «токсичные». Это создает герметичные информационные пузыри, где группа единомышленников постоянно подтверждает свою правоту, обмениваясь ритуальными осуждениями тех, кто снаружи. Внутри такого пузыря царит атмосфера моральной чистоты и праведного гнева. Но за его пределами растет ответная реакция – глухое раздражение, насмешка, а затем и открытое сопротивление со стороны тех, кого эта культура оттолкнула своим высокомерием и нетерпимостью. Люди, которые в принципе могли бы согласиться со многими прогрессивными идеями, отшатываются от них, увидев, с какой жестокостью эти идеи иногда навязываются. Политический дискурс огрубляется, превращаясь не в спор о путях развития общества, а в взаимные обвинения в расизме, фашизме, woke-диктатуре. Ритуал, призванный сплотить общество вокруг ценностей уважения, на деле раскалывает его на враждебные лагеря, которые говорят на разных языках (буквально) и не способны услышать друг друга. Демон поляризации, которого пытались изгнать, обретает новую силу, питаясь энергией взаимного отчуждения и морального презрения.
Второй демон, которого нечаянно призывают, – это демон непрозрачности и лицемерия. Когда публичное пространство становится настолько опасным, что любое искреннее высказывание может быть использовано против тебя, люди учатся играть в сложную игру. Они осваивают двойной регистр речи. В публичной сфере они произносят правильные, выверенные, безупречные с точки зрения политкорректности фразы. Они декларируют свою приверженность diversity, equity and inclusion, осуждают правильных врагов, используют последние утвержденные эвфемизмы. Но в приватных разговорах, в закрытых чатах, в узких кругах доверенных лиц они могут выражать совсем другие мысли – раздражение, скепсис, усталость от постоянного давления, несогласие с крайними проявлениями новой морали. Это порождает культуру всеобщего лицемерия, где никто не знает, во что на самом деле верит другой. Корпорации вкладывают миллионы в тренинги по бессознательной предвзятости и назначают chief diversity officers (директора по разнообразию), в то время как их кадровая политика и корпоративная культура могут оставаться глубоко несправедливыми. Политики голосуют за прогрессивные инициативы в области языка, но блокируют законы о перераспределении богатства или доступном здравоохранении. Такое лицемерие разъедает доверие, которое является основой любого здорового общества. Люди перестают верить публичным заявлениям, зная, что за ними часто стоит не убеждение, а расчет и страх. Ритуал очищения речи, вместо того чтобы сделать общество более честным, делает его более циничным и непрозрачным. Демон лицемерия, которого надеялись изгнать обличением ханжества прошлого, торжествует в новых, более изощренных формах.