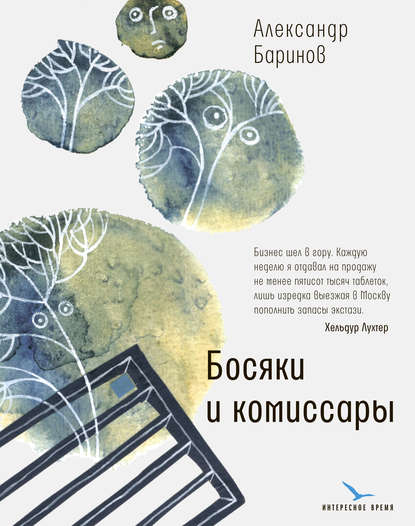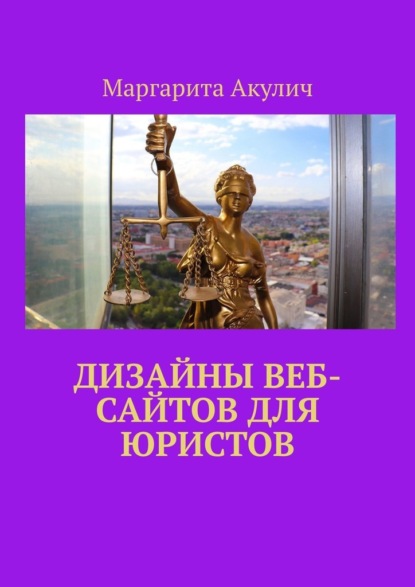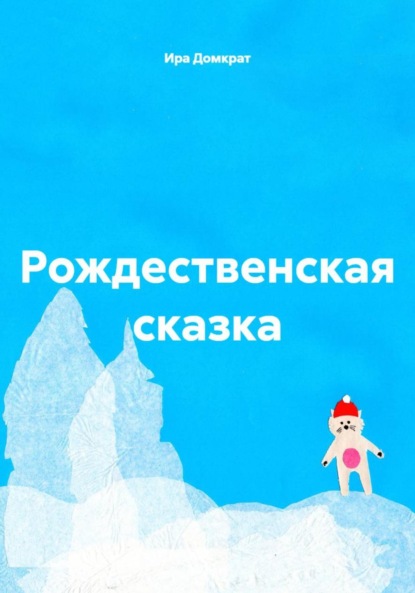Столкновение миросистем. Мировая апостасийная миросистема. Том 2

- -
- 100%
- +
Рим же, с его сугубо практическим, земледельческим и военным этосом, был носителем иного, комплементарного начала – Закона, Lex. Закон в римском понимании – это не просто свод писаных предписаний и запретов; это сам Порядок, Структура, Власть, imperium, иерархия, субординация, дисциплина и, прежде всего, воля к практическому воплощению, к организации, администрированию и систематизации самой реальности. Это принцип, проецируемый из сферы права на все мироздание. Римский прагматизм, этот исполинский мотор имперского строительства, взял утонченный греческий Логос – этот прекрасный, но зачастую умозрительный и оторванный от сиюминутных задач идеал – и воплотил его в бетоне и мраморе своих колоссальных построек, в неумолимых, отточенных как лезвие статьях права, в строгой, не знающей преград сетке дорог, связавших в единое целое всю ойкумену, в четких, как военный приказ, административных механизмах управления провинциями. Греция дала теорию, Рим – практику; Греция открыла идею, Рим – технологию ее реализации; Греция говорила о космосе, Рим этот космос строил.
Этот фундаментальный диалог можно проследить на примере трансформации риторики. В классической Греции риторика была, с одной стороны, искусством убеждения, инструментом политической борьбы и лидерства в условиях демократического полиса, а с другой – путем самовыражения и самопрезентации личности, формой интеллектуального состязания. В Риме же она была без остатка поставлена на службу государству и индивидуальной карьере в рамках cursus honorum. Риторические школы готовили не философов и не поэтов, а эффективных управленцев, беспристрастных судей, ловких политиков и блестящих адвокатов. Упражнения suasoriae, убедительные речи на историко-мифологические темы, и controversiae, судебные дебаты по сложным, часто надуманным казусам, были отнюдь не интеллектуальными играми или тренировками эрудиции, но суровыми тренажерами для принятия судьбоносных административных и судебных решений в условиях неопределенности, для анализа противоречивых свидетельств, для взвешивания аргументов «за» и «против», для искусства воздействия на эмоции и волю слушателей. Греческое искусство слова, techne rhetorike, направленное на поиск истины и воспитание гражданина, было радикально трансформировано и подчинено задачам римского орудия власти, instrumentum imperii.
Не менее показательная метаморфоза произошла и в сфере философии. Спекулятивная натурфилософия досократиков, сложная метафизика Платона или энциклопедизм Аристотеля в их чистом, самодостаточном виде почти не интересовали римский ум, видевший в них праздное умствование. Зато практическая этика позднего эллинистического стоицизма, с ее культом долга, самодисциплины, стойкости перед лицом судьбы, amor fati, личной ответственности и служения общественному благу, была воспринята римской элитой как идеальная, можно сказать, провиденциальная философская основа для правящего класса мировой империи. Стоический идеал мудреца, не подвластного внешним обстоятельствам и руководствующегося лишь естественным законом, был переосмыслен как образец для римского магистрата, администратора, полководца и самого императора. Фигура императора-стоика Марка Аврелия – это апофеоз, ярчайший символ и личное воплощение этого синтеза: в его «Размышлениях», написанных по-гречески, на языке изначального Логоса, изложен суровый экзистенциальный кодекс поведения римского правителя, несущего на своих плечах всю тяжесть Закона и бремя Имперской Воли. Даже эпикуреизм, с его призывом уйти от общественной деятельности, был переосмыслен Лукрецием как философское обоснование личной независимости и духовной атараксии, необходимых для сохранения внутренней свободы в условиях имперского деспотизма.
Методология «Гения места»
Таким образом, римский Genius Loci предстает перед нами не как пассивный дух-хранитель некоего сакрального ландшафта, но как активный, творящий принцип, как архитектор реальности, чья методология была основана на нескольких незыблемых, хотя и редко вербализуемых, принципах, определявших все аспекты имперской жизни от религии до канализации.
Прежде всего, это был принцип утилитарности. Все, что не имело ясного, осязаемого практического применения или не могло быть адаптировано для нужд государства, управления, армии, инфраструктуры или поддержания социального порядка, безжалостно отбрасывалось или отодвигалось на периферию культурного внимания. Глубокие математические изыскания Архимеда, его гениальные геометрические доказательства интересовали римского полководца Марцелла и его солдат неизмеримо меньше, чем те же самые законы механики, воплощенные в грозных осадных машинах, защищавших Сиракузы. Теоретическая физика Аристотеля была интересна лишь узкому кругу интеллектуалов, в то время как прикладная механика Герона Александрийского, описывающая устройство кранов, насосов и автоматов, находила самое широкое применение в римском строительстве и инженерии.
Следующим краеугольным камнем был принцип систематизации. Любое знание, любой социальный институт, любая завоеванная территория должны были быть приведены в единую, логичную и иерархическую систему, каталогизированы, описаны, измерены и подчинены универсальным правилам. Римское право, этот величайший памятник систематизирующему духу, есть не что иное, как гигантская попытка уложить всю сложность человеческих отношений в стройную систему взаимосвязанных понятий, норм и процедур. Corpus Juris Civilis Юстиниана – лишь финальная кодификация этого многовекового стремления. Точно так же организация провинций, налоговая система, военная дислокация, даже литературные каноны, Вергилий, Гораций, Цицерон, – все подлежало систематизации, созданию эталонов и образцов для подражания.
Неразрывно с ним связан принцип иерархии. Римский синтез никогда не означал создания бесформенной, эклектичной амальгамы, где все элементы равны. Напротив, вновь создаваемое целое всегда имело четкую, недвусмысленную иерархическую структуру, где римское начало – Закон, латинский язык, имперская администрация, идеология – занимало безусловно доминирующее, руководящее положение, а ассимилированные, инкорпорированные элементы, местные культы, языки, правовые обычаи, эстетические формы, занимали подчиненное, но строго регламентированное и важное место в общей системе. Это была иерархия, а не унификация, что придавало империи гибкость и устойчивость.
И, наконец, это был принцип долговечности. Римляне, в отличие от многих своих современников, мыслили категориями столетий и тысячелетий. Их синтез был нацелен не на сиюминутный эффект, а на создание вечных, незыблемых форм – aeternitas. Мосты, которые должны были служить вечно; акведуки, рассчитанные на бесконечную подачу воды; дороги, прокладываемые на века; законы, претендующие на вневременную справедливость; литература, призванная воспитывать бесконечные поколения – все это было частью грандиозного проекта по строительству не просто империи, но Вечного Города, Roma Aeterna, чей порядок должен был превзойти саму время.
Этот дух тотального синтеза, этот уникальный Genius Loci, и стал тем цивилизационным двигателем, той метафизической пружиной, что позволила Риму создать не просто еще одну империю в длинной череде многих, а целую культурную вселенную, универсальную модель бытия. Он же, в своей глубинной диалектике, определил и главный внутренний конфликт, раздиравший римскую цивилизацию изнутри, – перманентный, напряженный и трагический поиск неустойчивого равновесия между Форумом и Deus, между безличным Законом, упорядочивающим земное, социальное и политическое бытие, и личностным Логосом, открывающим путь к трансцендентному, вечному и сакральному. Это фундаментальное внутреннее напряжение между материей и духом, между системой и свободой, между имманентным и трансцендентным, и стало главной движущей силой их истории, основой как их блистательного триумфа, так и их глубоких, судьбоносных метаморфоз и неизбежного, но плодотворного заката. Понимание этой изначальной, синтетической природы римского духа является тем ключом, который отпирает дверь в подлинное понимание всей последующей истории Рима, от его материального фундамента до духовных вершин, представленной на страницах этой книги.
§ 3. Диалектика противоположностей как ключ к пониманию
Установив непреходящую актуальность Рима и определив уникальную природу его цивилизационного гения как способности к тотальному синтезу, мы неминуемо подходим к вопросу методологическому: каким инструментарием, каким аналитическим подходом мы можем адекватно охватить и осмыслить этот грандиозный, многогранный и полный внутренних противоречий исторический феномен? Традиционные исторические методы, сосредоточенные на хронологическом описании событий, анализе институтов или изучении материальной культуры, безусловно, необходимы, но оказываются недостаточными для постижения самой сути римского феномена. Они подобны инструментам, способным описать отдельные детали гигантской мозаики, но не схватывающим замысел, композицию и внутреннюю динамику целого. Предлагаемая данным исследованием методологическая рамка основана на принципе диалектики противоположностей, понимаемой не в узко философском, а в широком, общеметодологическом смысле как постоянное взаимодействие, напряжение и взаимопроникновение противоречивых начал, составляющих внутренний двигатель развития римской цивилизации. Именно этот напряженный диалог между, казалось бы, взаимоисключающими полюсами – между материей и духом, практикой и теорией, имманентным и трансцендентным – и станет той сквозной нитью, которая позволит нам не просто перечислить достижения Рима, но понять его как живой, пульсирующий и трагический организм.
От материального фундамента к духовным вершинам
Структура данной книги сознательно выстроена как восхождение по ступеням римского бытия, отражающее ключевой тезис о неразрывной связи и взаимовлиянии всех сфер цивилизации. Мы начнем наше исследование с анализа материального фундамента Империи – экономики, права, инфраструктуры и системы образования. Этот выбор отнюдь не случаен. Именно в этих, казалось бы, сугубо утилитарных сферах с предельной ясностью проявляется римский прагматический гений, его воля к порядку, систематизации и эффективности. Мы досконально исследуем, как работали финансовые артерии гигантского тела империи, заглянув в счетные книги латифундий и банкирские конторы аргентариев; как мировая валюта – динарий – связывала в единую экономическую сеть рынки от туманной Британии до знойных берегов Евфрата; как система образования, построенная на усвоении и адаптации греческой «пайдейи», готовила унифицированную управленческую элиту, способную мыслить категориями всего цивилизованного мира – ойкумены. Этот материальный базис, этот несокрушимый каркас, был не просто предпосылкой, но необходимым условием, питательной средой, в которой вызревали все последующие интеллектуальные и духовные достижения Рима. Без прагматизма Закона не было бы почвы для взлета Логоса.
Следующая ступень нашего исследования будет посвящена науке и искусству как воплощенному Логосу. Здесь мы обнаружим, что цивилизационная сила Рима лежала не в глубине умозрительных, отвлеченных теоретических изысканий, как у греков, но в безудержной, гениальной мощи прикладного знания. Римская физика – это, по сути, физика акведуков, строительных кранов и осадных машин; римская математика – это геометрия землемеров-агрименсоров и архитекторов, рассчитывающих пролет арки. Витрувиев принцип «пользы, прочности и красоты» становится универсальным ключом к пониманию не только их архитектурных шедевров, но и всего стиля римского мышления. Мы проследим эту волю к порядку, воплощенную мощь и трезвый реализм в монументальных, подавляющих масштабом формах форумов, терм и базилик; в беспощадном психологизме скульптурного портрета, запечатлевавшего каждую морщину, складку плоти и черту характера, а не отвлеченный идеал; и, наконец, в зрелищной, порой низменной, стихии театра и музыки, служивших и целям государственной пропаганды, и глубинным психологическим потребностям массы. На этом уровне диалог материи и духа обретает зримые, почти осязаемые формы: инженерный расчет встречается с эстетическим чувством, грубая сила – с утонченным вкусом.
Кульминацией же нашего исследования станет часть, посвященная духовной эволюции Рима – от гражданской теологии к Граду Божьему. Лишь пройдя этот многослойный путь через мир материи, права, инженерии и формы, мы сможем в полной мере понять и оценить всю глубину и драматизм интеллектуальной и духовной метаморфозы римского мира. Выросшая на прочном, рационально выстроенном фундаменте социального порядка и практицизма, римская мысль прошла исполинский, поистине судьбоносный путь. Мы станем свидетелями этого пути: от рациональной, государственно ориентированной «гражданской теологии» Варрона и Цицерона, где религия была частью общественного договора, через суровую практическую философию стоиков, учивших достойно жить и так же достойно умирать в этом упорядоченном, но безличном космосе, к напряженным, страстным поискам личного спасения в мистериальных культах Востока и герметическом гнозисе, сулившем познание Бога через познание себя. Всеобъемлющий кризис античного миропорядка в III-V веках н.э., совпавший с глубинным пересмотром самих основ человеческого существования, привел к апофеозу этого движения – рождению неоплатонизма, последней великой теософской системы Язычества, предлагавшей сложный, иерархический путь мистического воссоединения с Единым. И в финальном, захватывающем акте этой многовековой драмы мы станем свидетелями величайшего интеллектуального и духовного сражения эпохи, битвы парадигм между утонченной, иерархически-мистической теософией неоплатоников и новой, динамичной, взрывной силой – христианской догматикой с ее идеей Богочеловека и линейной историей, устремленной к эсхатону. Финальной точкой этого пути, его логическим и историческим завершением, станет колоссальная фигура Аврелия Августина, в трудах и личной судьбе которого римский гений к синтезу достиг своей кульминации: переосмыслив неоплатоническую метафизику в ключе христианского откровения, он заложил не просто основы всего последующего европейского богословия, но и те концептуальные мосты, по которым античность перешла в Средневековье. Здесь диалог материи и духа достигает своей наивысшей интенсивности, перерастая в напряженный поединок между имманентным и трансцендентным, между Градом Земным и Градом Божьим.
Диалектика конкретных противоположностей
Чтобы метод диалектики противоположностей не остался абстрактной декларацией, продемонстрируем его работу на нескольких конкретных, сквозных для всей книги примерах, которые будут детально раскрыты в соответствующих главах.
Одной из центральных осей напряжения является диалектика Закона и Логоса. Мы будем последовательно прослеживать, как сухой, точный, казуистический язык римского права, с его ориентацией на процедуру, доказательство и формальную истину, оказал глубочайшее влияние на строгий, логически выстроенный, почти юридический стиль теологических трактатов Тертуллиана и Августина. Римский юрист, скрупулезно взвешивающий свидетельства и строящий цепь аргументов, и христианский богослов, выстраивающий догматическую систему и опровергающий ереси, используют один и тот же ментальный инструментарий, унаследованный от римской юридической культуры. Далее, мы увидим, как инженерный принцип иерархии и несущей конструкции, очевидный в римском акведуке, где каждый камень несет определенную нагрузку в общей системе, или в конструкции Пантеона, где вес грандиозного купола точно распределен по барабану и нишам, находит свое прямое концептуальное отражение в неоплатонической картине эманации мироздания от Единого через Иерархию Умов и Душ к материи. Архитектоника космоса у Плотина и Прокла есть своеобразная «инженерия духа», проекция римского строительного гения на метафизические сферы. Наконец, мы проанализируем, почему римский скульптурный портрет эпохи Республики так безжалостно физиогномичен и психологически реален, стремясь запечатлеть конкретную личность с ее пороками и добродетелями, в то время как философия, в отличие от греческой любви к умозрению, так ориентирована на мораль и конкретное жизненное руководство, на «памятки» для поведения, как у Сенеки или Марка Аврелия. И в портрете, и в философии мы видим одну и ту же установку на практику, на конкретику, на протоколирование реальности – будь то реальность человеческого лица или человеческой души.
Другой плодотворной парой противоположностей является диалектика гражданского и личного, общественного и частного. Мы исследуем, как изначальная римская религия, бывшая делом государства, res publica, постепенно, по мере роста империи и атомизации общества, уступает место глубоко личным, эмоциональным культам спасения, митраизм, культ Исиды, христианство, апеллирующим к индивидуальной душе и ее посмертной участи. Трансформация патрицианской виллы из центра управления сельскохозяйственным поместьем в позднеантичную роскошную резиденцию – виллу-убежище, куда аристократ бежит от суеты и опасностей большого города, – станет для нас наглядным примером этого процесса автаркии и приватизации жизни. Эволюция же латифундии от чисто экономического предприятия, основанного на труде рабов, к социально-политическому микрокосму – поместью с зависимыми колонами, собственной милицией и фактической независимостью от центральной власти, – ярко иллюстрирует, как частное владение начинает брать на себя функции публичной власти, предвосхищая феодальные отношения. Этот процесс «опривачения» публичного станет одним из ключей к пониманию кризиса имперской системы.
Наконец, мы будем постоянно обращаться к диалектике универсализма и партикуляризма. Рим, с его идеей orbis terrarum, круга земель, и универсального гражданства, создал первую в истории модель глобализованного мира. Однако этот универсализм постоянно сталкивался с упорным сопротивлением локальных традиций, языков и идентичностей. Мы проследим, как римское право, претендующее на универсальность, вынуждено было развивать институт ius gentium, права народов, для регулирования отношений с не-римлянами, и как в конечном счете именно партикулярные, восточные религиозные формы, в частности, христианство, сумели овладеть универсалистским римским аппаратом, превратившись в новую, на сей раз духовную, универсальную империю – Вселенскую Церковь. Триумф христианства есть в этом смысле победа партикулярного по происхождению учения, сумевшего воспользоваться римскими универсалистскими структурами для своего распространения и утверждения.
Источники и междисциплинарный анализ
Реализация столь сложной методологии требует привлечения максимально широкого круга источников и междисциплинарного подхода. Наше исследование будет опираться не только на традиционный корпус письменных источников – от трудов Тита Ливия и Тацита до кодексов Феодосия и Юстиниана, от философских трактатов Цицерона и Сенеки до теологических сочинений Тертуллиана и Августина. Мы будем активно привлекать данные археологии, эпиграфики, нумизматики, папирологии, которые позволяют услышать голоса не только элиты, но и простых людей – солдат, ремесленников, торговцев, колонов. Надписи на надгробиях, граффити на стенах Помпей, папирусные письма и бухгалтерские счета – все это бесценные свидетельства повседневной жизни, без которых картина римской цивилизации останется неполной.
Такой подход позволяет преодолеть традиционную фрагментацию исторического знания. Экономист, изучающий римскую монетную систему, редко говорит с историком искусства, анализирующим иконографию императорских портретов на тех же монетах. Историк права может не пересекаться с патрологом, исследующим формирование христианской догматики в терминах, заимствованных из римской юриспруденции. Наша методология, основанная на диалектике противоположностей, призвана разрушить эти искусственные барьеры. Она позволяет увидеть, как экономический кризис III века, выразившийся в порче монеты, коррелирует с кризисом доверия к традиционным богам и взлетом мистических культов; как инженерные принципы находят отражение в философских системах; как эволюция права предвосхищает социальные трансформации.
Таким образом, предлагаемая методология – это не просто схема изложения, но своего рода «герменевтический ключ», позволяющий прочитать великую книгу римской истории не как набор разрозненных глав, а как единое, связное и напряженное повествование о диалоге материи и духа. Это повествование, полное драматических коллизий, триумфов и трагедий, в котором сухой параграф закона и экстатический порыв мистика, расчетливый ум банкира и самоотверженность мученика, железная дисциплина легиона и утонченная мысль философа оказываются неразрывно связанными частями одного грандиозного целого. Только такой, целостный и диалектический подход позволяет приблизиться к пониманию того, почему наследие Рима, пронизанное этими вечными противоречиями, продолжает жить и оказывать воздействие на нашу собственную цивилизацию, стоящую перед схожими вызовами на новом витке исторической спирали.
§ 4. Рим как цивилизационный мост и лаборатория модерна
Проделав путь от констатации актуальности Рима через выявление его синтетической природы к построению адекватной методологии, мы подходим к формулировке центрального тезиса всего исследования, его широкого замысла, выходящего далеко за рамки академического антиковедения. Данная книга утверждает, что Римская цивилизация представляет собой не просто один из этапов всемирной истории, расположенный между Элладой и Средневековьем, но уникальную цивилизационную лабораторию, в недрах которой были впервые опробованы, отработаны и законсервированы ключевые социальные, политические и ментальные структуры, составившие впоследствии фундамент Западного Модерна. Рим, при всей своей принадлежности к эпохе премодерна с его мифологическим сознанием, сакрализацией власти и локальными идентичностями, невероятным усилием своего гения начал вызревать в его толще как зародыш принципиально иного миропорядка, создав систему «спящих матриц», которые будут реактивированы и переосмыслены столетия спустя, на пороге Нового времени. Таким образом, Рим предстает не просто предтечей, но активным участником грандиозного перехода от Премодерна к Модерну, гигантским историческим мостом, перекинутым через пропасть Темных веков. Понимание этого процесса позволяет увидеть в римской истории не замкнутый цикл взлета и падения, а незавершенный проект, чьи потенции продолжают оказывать влияние на современность.
Деконструкция «фазового перелома»
Современная философия истории, вслед за Освальдом Шпенглером и Арнольдом Тойнби, часто рассматривает переход от Премодерна к Модерну как своего рода «фазовый переход», качественный скачок, радикально прерывающий преемственность эпох. Мир Премодерна рисуется как царство локальных мифов, циклического времени, сакрального властителя и нерасчлененного, синкретического сознания, где природа, общество и божественное переплетены в неразрывный клубок. Мир же Модерна, напротив, характеризуется торжеством универсальных законов, линейного прогрессирующего времени, секулярного государства, прав автономного индивида и рационального, диссоциированного от природы субъекта. При таком взгляде Рим, безусловно относящийся к эпохе Премодерна, оказывается лишь ее поздней, изощренной, но все же завершающей фазой. Однако предлагаемое исследование настаивает на более сложной, диалектической картине. Сам Рим, оставаясь в целом в рамках парадигмы Премодерна, своими собственными имперскими практиками, своей правовой и административной машиной начал подрывать его основы изнутри, создавая протомодерные институты и категории мысли. Он был не просто частью старого мира, но его внутренним преодолением, осуществленным его же собственными средствами. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать, как ключевые столпы модерного миропонимания вызревали в римской практике.
Рассмотрим, например, категорию универсализма и космополитизма. Преодолев узкие рамки полиса и этнической исключительности, Рим создал первую в истории действующую модель универсального государства, где понятие «гражданин», civis Romanus, а со временем, под влиянием стоической философии, и «человек», homo, начало отделяться от сугубой этнической и племенной принадлежности. Идея «всемирности», orbis terrarum, была не просто географическим обозначением, но политическим и правовым концептом, прямым предтечей проектов Просвещения и современных концепций прав человека. Эдикт Каракаллы 212 года н.э., даровавший римское гражданство почти всем свободным жителям империи, как ни парадоксально это звучит, был актом именно модерного универсализма, пусть и продиктованным фискальными соображениями. Более того, стоическая философия, столь популярная в римской элите, с ее концепцией мирового закона, lex naturalis, и идеалом «гражданина мира», kosmopolites, предоставляла мощное интеллектуальное обоснование этому универсализму, подрывая партикуляризм традиционного сознания.