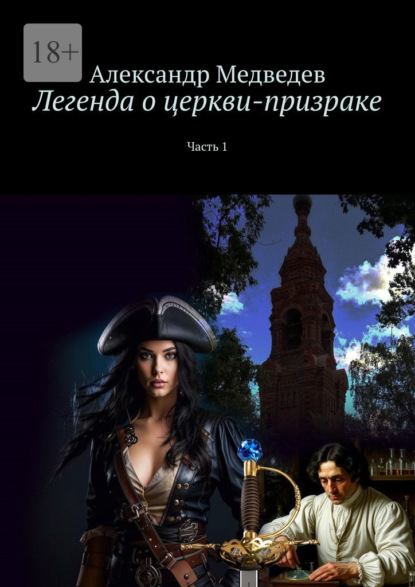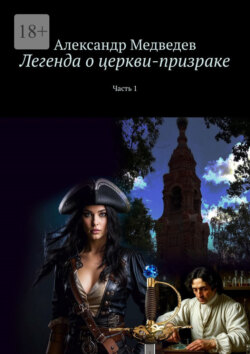
000
ОтложитьЧитал
Может ли святой помочь человеку в трудную минуту? Наверное, может. Но все святые – бывшие люди, а людям свойственна корысть…
© Александр Геннадьевич Медведев, 2025
ISBN 978-5-0067-3395-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0067-3396-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Загадочный купол
Удивительно, какой потрясающей фантазией обладали мастера-архитекторы XIX века. Да не только в XIX веке. Такие необыкновенные художники жили и в античной Греции, и в средневековой Европе, в эпохе возрождения, и в эпохе модернизма начала XX века. Италия, Франция, Россия, Голландия, да не перечислить всех стран, где возводились настоящие архитектурные шедевры. У современных архитекторов вся инженерная мысль заканчивается созданием прямоугольной коробки из стекла и бетона. И российские, и западные мастера градостроения заметно по истощились в фантазиях…
Яркая вспышка молнии резко озарила силуэт огромной трёхъярусной колокольни из красного кирпича, сводчатую арку и лик Божьей Матери, располагавшийся прямо над входом. Седьмое мая выдался на редкость тёплый и солнечный, но к пяти часам дня начали сползаться густые тучи, поднялся холодный ветер, и к девяти вечера небо заволокло так, что сделалось темно, как ночью. Вот-вот разразится ливень. В след за молнией раздался оглушительный громовой раскат. Казалось, рухнуло само небо. Он точно пытался вдавить меня и всё живое вокруг в крепкий асфальт дороги. К счастью, массивные стены колокольни, возле которых я сейчас стоял, словно защищали и отводили удар от любого путника, оказавшегося неподалёку. Ждать больше нельзя, через мгновение начнется настоящая буря. Я осторожно постучал в тяжёлую дубовую дверь, украшенную двумя православными крестами.
Секунду спустя замок, с другой стороны, загремел и дверь отворилась. На пороге стоял невысокого роста пожилой батюшка с небольшой седой бородкой. Из всего церковного облачения на нём была только скуфья. Одет он был в обыкновенную мирскую одежду – брюки и рубашка темного цвета.
– Отец Алексей? – спросил я.
– Да, это я! – ответил батюшка. – Проходите, пожалуйста!
Я вошёл внутрь в ярко освещенное помещение. Когда-то это была обычная колокольня при монастыре, а теперь переделана в маленькую церквушку. Я уже не раз бывал тут. Здесь какое-то невероятное место силы, теплоты и уюта. Здесь тишина и умиротворение. Слева иконостас и две потрясающей красоты иконы в человеческий рост, Благодатное Небо и Николай Чудотворец. Я никогда не видел ничего более восхитительного. За иконостасом арка, загороженная гардиной. Наверное, там какое-то подсобное помещение. Покуда отец Алексей запирал за мной дверь, я снял с головы капюшон, перекрестился перед святыми.
– Ну что, пойдёмте! – раздался его голос.
Я повернул голову. Отец Алексей перебирал в руках связку ключей, взгляд усталый, задумчивый, и какой-то очень грустный. Здесь, на ярком свету, лицо священника показалось мне знакомым. Да-да, я уже видел его раньше, где-то в конце девяностых. В одной небольшой церкви на севере Москвы, название которой я уже даже и забыл. Правда, тогда отец Алексей был на много моложе. Мне запомнился этот приятный батюшка из-за одной комичной ситуации, которая произошла в храме. В церковь пришёл молодой человек из поколения, что называется «новых русских». Почти на лысо бритая голова, пивной живот, цветастые шорты с торчащей из заднего кармана антенной сотового телефона. Судя по всему, Господь не обидел его силушкой, но вот умом обделил начисто. Отец Алексей был занят, возился около иконостаса. Молодому человеку, видимо, что-то очень нужно было спросить у священника, но как к нему обратиться, он понятия не имел. Он подошёл к батюшке со спины и начал произносить нечленораздельные звуки:
– Э!.. Э!.. Дядь!.. Не?.. Э!.. А!.. Это… Поп?
Минут через пять отец Алексей догнал, что сие обращение относится именно к нему, что «поп» – это как раз он и есть, и оглянулся:
– Да, сын мой!
На лице молодого человека отразилась явная радость, что его невнятное лепетание наконец достигло цели, и он, наморщив лоб, принялся излагать суть дела.
– Это… ну… Бать!.. как тут… это… тёлку сбрызнуть?
Батюшка крайне удивился, но любопытство взяло верх, и он продолжил слушать.
– Ну это… как там у вас?.. кунают?.. или чё там… ныряют? – горячился молодой человек.
Ангельскому терпению отца Алексея можно было только позавидовать. Спустя пол часа, он всё-таки выяснил смысл проблемы, обрушившейся на несчастного сына Божьего. Оказалось, молодой человек пришёл в церковь не один, а со своей девушкой. И девушка имеет страстное желание по креститься…
– Прошу за мной! – ещё раз повторил отец Алексей. Он отодвинул в сторону иконостас, отбросил гардину. – Смелей, прошу вас!
– Как, сюда?
Этот вопрос вырвался у меня непроизвольно.
– Да, вход в подземную галерею находится прямо здесь! – с некоторым смущением ответил батюшка. – Осторожней, берегите голову!
Отец Алексей взял с полки фонарь, зажёг его. Я пригнул голову и осторожно проследовал за священником. Хотя здесь можно было вовсе и не опасаться удариться головой. Потолок в подсобке был таким же высоким, как и в главном зале. Вся комната заставлена церковной утварью, старой мебелью, какими-то непонятными для меня предметами для богослужений. Тут же стоит стул с отломанной ножкой, на нём нагромождение из отслуживших подсвечников, рядом штабелем сложены аналои. Чуть поодаль обшарпанная микроволновка, видимо не работающая, и на ней электроплитка. Около них целая батарея пластиковых бутылей с елеем. Отец Алексей, осторожно пробираясь через всё это добро, повёл меня в самый конец подсобки. Там он свернул направо, и я увидел крутую каменную лестницу, ведущую наверх к звоннице.
– Будьте добры, подержите! – батюшка передал мне в руки фонарь, а сам, согнувшись пролез под первый ярус лестницы и начал отворачивать лежащий на полу старый затоптанный ковер. Под ковром оказался деревянный люк. Отец Алексей вытащил связку ключей, снял навесной замок с люка. А вот открыть его оказалось делом непростым. Вдвоём с отцом Алексеем мы с огромным усилием подняли тяжеленную крышку, окованную железом и усиленную толстыми деревянными рёбрами. Ржавые петли заскрипели, и вот, наконец, крышка отвалилась в сторону, освобождая чёрный зияющий проход. Я посветил туда фонарём. Луч фонаря утонул в темноте, озарив только деревянную лестницу, почти вертикально сходящую вниз.
– Раньше лестница была хорошая, каменная! Но потом она развалилась, пришлось сделать деревянную! – словно оправдываясь, пояснил отец Алексей.
Я наклонился над этой чёрной дырой, больше напоминающую вход в преисподнюю, и внимательно посмотрел вглубь. Оттуда пахнуло сыростью и спёртым запахом подвала…
1980 год. Москва. 20 июля.
– Собирайся, кому говорю! Время уже одиннадцать, опять никуда не успеем! А сегодня, передавали, после обеда дождь будет! Сам же вчера «отдуху не давал»: «хочу в Петра Алексеева сходить»! А теперь тянешь!
Понять жаргон моей бабушки мог только я сам.
Я сидел на полу возле кровати, обложившись пластмассовыми игральными шашками, полностью погружённый в увлекательнейшую и сложнейшую игру, которую, даже «взрослые» мальчики одолевали с трудом, не говоря уже про меня, восьмилетнего ребёнка. Передо мной разворачивалось нешуточное сражение шашек против шахмат. Сами шахматы стояли грозной шеренгой на противоположном конце комнаты, у окна. И намерения у них были самые, что ни есть воинственные – атаковать позиции шашек по всему фронту! Я в данный момент играл за шашек. Мои действия заключались в том, чтобы поставить шашку на ребро и сильно вдавить её пальцем в пол. Шашка выстреливала, долетала до неприятеля, и не переставая бешено крутиться в обратную сторону, возвращалась ко мне. В этом и состоял смысл игры – шашка должна была сбить одну из шахматных фигур. Если же шашка не возвращалась или падала на бок от удара по цели, не причинив ей вреда, то она считалась съеденной. Поразить шахматы на таком расстоянии оказалось делом непростым. Ряды шашек редели с каждой минутой, а мрачная стена чёрных шахматных фигур даже и не думала отступать.
Я настолько увлёкся игрой, что даже забыл, что сегодня бабушка обещала сводить меня в «Петра Алексеева», и что я последние два дня действительно «не давал ей отдуху». «Петра Алексеева» – это парк, названный в его честь. Кто такой Пётр Алексеев я особенно не вдумывался, но был на все сто процентов убеждён, что это какой-то очень выдающийся революционер, раз его именем назвали целый парк. Ибо в Советском Союзе объекты культурного наследия называли только именами коммунистических деятелей. Уже гораздо позже, будучи взрослым, я узнал, кто такой Пётр Алексеев на самом деле. Моему удивлению не было предела – восьмилетний ребёнок оказался прав! Пётр Алексеев точно был самым первым революционером в царской России, за исключением одного маленького нюанса – он никогда не посещал и вообще не был связан с теми местами, где сейчас расположен парк, носящий его имя! Он был рабочим ткацкой фабрики Смоленской губернии в середине XIX века.
«…Подымится мускулистая рука миллионов рабочего люда и ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в прах.» – да-да, это его слова, произнесённые на царском суде 21 марта 1877 года.
Бабушка часто рассказывала мне о загадочном и таинственном парке с невероятными прудами, развалинами древнего замка, с огромным водопадом, с чудо-беседкой, где отдыхали господа, любуясь потрясающими видами на воду. И я, конечно же, загорелся отчаянным желанием увидеть это всё своими собственными глазами.
Я много раз упрашивал бабушку сводить меня в этот парк и каждый раз бабушка, с ужасом в голосе, начинала причитать, что парк находится невероятно далеко, что идти туда нужно через страшную железную дорогу, где «пачками» сбивают людей, через старое депо, кишащее злобными бродячими псами, через заброшенную ткацкую фабрику, названную, кстати, также, как и парк именем Петра Алексеева. К тому же, (тут бабушка всегда переходила на трепетный шёпот) рядом там находится Головинское кладбище, на котором похоронена её свекровь и брат моего деда. Свекровь при жизни отличалась деспотичным нравом и скверным характером, а брат, так тот вообще «припадошный»! Закопал фотографию своей жены на кладбище, чтоб та окочурилась. А через три дня и сам попал на кладбище с проломленной головой. Нашли его в ванной, и дверь была заперта изнутри…
А по сему следует, что место там нечистое и мрачное.
И вообще, побывать в этом парке – это настоящий поход, и готовиться к нему нужно заранее и очень тщательно. Как к поездке «на юг». Так что, все эти глупости мне нужно из головы выбросить и «дурью не маяться».
Всё это только ещё больше разжигало моё любопытство. И однажды, в жаркие июльские дни, я собрал в кулак всю свою волю и решительность, и поставил перед бабушкой вопрос ребром… То есть, выражаясь её языком, – «не дал отдуху»!
…Я с сожалением оглядел поле боя. Черные сверкающие фигуры, которые сейчас одновременно играли роль «белогвардейцев» и «фашистов», явно торжествовали победу.
– Ба, я щас, закончу! – крикнул я. У меня ещё осталась одна шашка. Последняя. Надо уничтожить их предводителя. Это вот та самая длинная фигура, которая в шахматах называется «Королём». Я поставил шашку на ребро, прицелился…
…Когда мне было пять лет, я мечтал, что обязательно буду курить и пойду служить в армию. Меня интриговало буквально всё, связанное с военной тематикой. Самой моей любимой передачей была «Служу Советскому Союзу», самыми любимыми фильмами – фильмы про войну, в крайнем случае, про шпионов, любимые книги – конечно же про разведчиков. Не мудрено, что и игры меня интересовали только военные. В моём дворе жил один мальчик, он ездил на детском велосипедике КВД. С толстыми надувными шинами, с кожухом цепи, с холостым ходом, с передним тормозом, с багажником. Такая машина казалась мне не велосипедом, а настоящим боевым мотоциклом. А у меня был велосипед «Ветерок». Голая рама и колёса. Вместо шин литые резиновые кольца, без холостого хода и даже без тормозов. Крутить педали нужно было постоянно, до потери сознания. Впрочем, далее трех метров уехать на нём всё равно не получалось. Цепь слетала, и всё приходилось начинать сначала. Велик, что называется, как раз для меня. А тут КВД! Такой велосипед покупают только особенным, «военным» мальчикам! Но дело было даже не в велосипеде. У этого мальчика была настоящая армейская пилотка! Со звёздочкой! Он всё время выходил в ней на улицу и всем с гордостью заявлял, что он – сержант! Ох, как я завидовал ему! В моих глазах он вообще был как будто не из мира сего. Ничего себе, маленький мальчик и уже сержант! У меня и тени сомнения не было в его правоте. А иначе, откуда у него пилотка? Получить военную пилотку даже взрослому человеку на гражданке и то невозможно.
…Шашка выстрелила с такой силой, что снесла одним махом почти всю шеренгу «черных», перескочила через открытый балкон и улетела на улицу.
Я радостно вскочил на ноги. Победа! Теперь можно и собираться в парк. Шашку, правда, жалко, зато «немцы» разгромлены!
…И вот, наконец, исполнилась мечта всей моей жизни! Мы с бабушкой идём смотреть парк Петра Алексеева! Погода великолепная, чистейшее небо и под тридцать на улице. Сначала мы перешли железную дорогу. Вопреки утверждениям бабушки, ничего ужасного в этой дороге не наблюдалось. Ходили там только товарные поезда, очень редко и очень медленно. Никаких штабелей трупов под железнодорожной насыпью я тоже не увидел. Это был старый-престарый участок кольцевой железной дороги, заросший бурьяном и одуванчиками. С детства у меня невообразимая слабость с таким вот диким и нетронутым местам, особенно если они ещё и связаны с железной дорогой. Здесь какая-то не передаваемая ностальгия первозданности, единения с природой, тишины, спокойствия.
Теперь депо… Депо очень старое, строилось ещё в 1908 году. Повсюду видны здания дореволюционной постройки. Корпуса мастерских, башня нефтекачки, и конечно же, само депо. Очень необычное, веерного типа, на двенадцать тепловозов. Для меня попасть в такое необыкновенное место, это как для современного ребёнка попасть в Диснейленд. Страсть ко всяким редким машинам, старым развалинам, заброшенным железнодорожным путям была у меня такой, что порой даже перекрывала увлечение военными играми. Но, а здесь просто настоящий Эдем. Повсюду разные интереснейшие агрегаты, краны на железнодорожных платформах, вмурованные в землю и заросшие травой рельсы, со всех сторон глядят ржавые тепловозы, опутанные лианами, которых не касалась рука человека лет пятьдесят. Одним словом – индустриальная романтика!
Далее – ткацкая фабрика. Оказалось, что фабрика не заброшенная, а вполне действующая. Бабушка рассказала, что раньше здесь выпускались ткани великолепного качества, не уступающие итальянским или французским. И знает она это не понаслышке, а потому, что сама когда-то работала на этой фабрике. Вот это да! А я даже и не знал!
Ну вот мы и добрались до парка. Первое, что я увидел – это огромные смотровые башни в готическом стиле и между ними кованные ажурные ворота. Вход в парк. Ворота в высоту – метров семь. Ни дать, ни взять – Райские врата!
Мы прошли через эти ворота, сразу за ними почувствовалась долгожданная тень и прохлада. Кругом стоят высоченные клёны и липы. Это их листья так защищают вход от солнца, что в яркий день здесь царит почти полумрак. С левой стороны виден участок громадной крепостной стены. Она ещё больше добавляла прохлады этому месту. От ворот вглубь парка ведёт широкая дорога. По выступающим на ней бугоркам угадывалось, что раньше она была вымощена брусчаткой. Но теперь камни уже почти сравнялись с землёй, а вот когда поместье только построилось, здесь, видимо, была великолепная дорога, как сама Красная площадь. А начала строиться усадьба аж в 1780 году по приказу тогдашнего хозяина Михалковского имения генерал-аншефа Петра Ивановича Панина.
Пётр Иванович был довольно известным при дворе человеком. Прославился при штурме Бендеровской крепости в 1770 году. Крепость взяли, но ценой чудовищных потерь. Под его командованием русские войска потеряли более шести тысяч убитыми, это почти пятая часть всей армии. Сейчас уже трудно сказать, что привело к таким огромным потерям, бездарное командование, или авантюризм военачальника, или стратегическая необходимость, заставившая взять крепость любой ценой, но после этого события граф Панин впал в немилость Екатерины II, а в последствии и вовсе отправлен в отставку.
Вернуться на военную службу и реабилитировать себя в глазах императрицы ему помогло тремя годами позднее величайшее событие, сотрясшее всю Россию. В сражении при Бендерах отличился один славный донской казак по имени Емельян Пугачёв. Емельян Иванович служил в полку Кутейникова во 2-ой казачьей сотни и в бою проявил недюжинную отвагу и самоотверженность, за что ему и был пожалован младший офицерский чин – хорунжий. Но вот после взятия крепости козырять своими воинскими доблестями стало как-то неуместно, слишком уж страшной ценой далась эта победа. И будучи человеком эмоциональным, Емельян Пугачёв не мог забыть, как генерал Панин не глядя бросал в кошмарную мясорубку русские полки. Это было очевидно и не только ему, жизнь простого солдата не стоила ничего. Вот тогда впервые и закрались у хорунжия Пугачёва мысли о восстании…
А Пётр Иванович Панин был немедленно отозван императрицей из отставки и во главе карательного отряда отправлен усмирять своего бывшего подчинённого.
…Миновав восточные ворота, мы свернули направо и вышли к обширной и очень весёлой детской площадке. Чего на ней только нет – качели, карусели, всякие конструкции для лазанья, домики, песочницы. В центре площадки огромная деревянная ракета с двухэтажный дом. И внутри там есть лестницы, по которым можно полазить. Детей видимо-невидимо! А чуть поодаль я увидел памятник Зое Космодемьянской. Бабушка тоже много рассказывала про него. Я подошёл по ближе. Скульптура очень простая, из серого гипса, но было в ней что-то такое… очень необычное. Что брало за душу. Особенно живые цветы в гипсовой руке Зои.
Мне почему-то вспомнилось, как в Бескудникове, из которого мы совсем недавно уехали, тоже были остатки старого парка и там стояла очень странная скульптурная композиция – «Обнажённая пионерка с горном»! Подобными статуями было модно украшать парки в шестидесятые годы. Что олицетворяла такая инсталляция, понять сложно, но из всей одежды на ней действительно был лишь один пионерский галстук. Как только не изощрялась ребятня, пририсовывая на интимных местах статуи различные предметы. Я все время смеялся над такого рода «наскальной живописью», но бабушка сразу хлопала мне по губам, хватала за руку и быстрей-быстрей вела прочь, гневным голосом напоминая, что такие глупости рисуют только хулиганы и смотреть на них маленькому мальчику, вреде меня, никак нельзя! Так что, в один прекрасный день, «пионерка» не выдержала стыда и развалилась на двое.
Больше всего мне хотелось посмотреть на водопад. Водопада в живую я ещё не видел ни разу в жизни. Мне всегда казалось, что это что-то южное, из жарких стран, и в России вообще не встречается. А тут водопад прямо в Москве!
Сразу за детской площадкой, за стеной деревьев, виднелись большие пруды. Наверное, там и находился водопад. Мы с бабушкой обогнули площадку и вышли к открытой воде. Здесь я и увидел ту самую старинную беседку, про которую говорила бабушка. Скорее это была даже не беседка, а ротонда из красного кирпича с врезными колоннами и с причудливой башенкой на крыше. Ротонда настолько окутана многолетними нетронутыми зарослями, что издалека её можно было и не заметить. Я поспешил заглянуть внутрь беседки. Оказалось, что с противоположной стороны есть лестница, ведущая к самой кромке воды. Отсюда открывался великолепный вид на всю панораму Головинских прудов. С левой стороны старенький горбатый мостик через пролив между прудами, а справа на сколько хватало человеческого взгляда тянулась длинная бетонированная набережная, и в самой её середине виднелся пролёт, огороженный балюстрадой. Да, видимо там и находится водопад.
Время давно уже перевалило за полдень, когда мы неторопливо двинулись вдоль набережной к водопаду. Пруд огромный, идти предстояло долго, необходимо было почти полностью обойти его по кругу. Но прежде, чем добраться до начала набережной, надо ещё пройти жаркий палящий пляж.
– Бабушка, а что это за церковь? – спросил я. Моё внимание привлёк возвышающийся над зелёными насаждениями купол церкви на противоположной стороне пруда. Он был настолько далеко, что мне казалось находится он на самой кромке горизонта.
– О-о-о-о! Это очень старая церковь! – с почтением в голосе ответила бабушка. – Эта церковь стояла, когда я ещё молодая была!
Меня очень умиляло отношение бабушки к возрасту. Это когда она была молодая? Двадцать лет назад? А сейчас, в пятьдесят, она старая? С такого огромного расстояния трудно было рассмотреть церковь, но судя по очертаниям, постройка явно постарше моей бабушки в любом возрасте.
– Ба, а ты когда-нибудь была там? – продолжал я.
– Нет, ни разу! – вздохнула бабушка. – Я даже не знаю, как она называется!
Моя бабушка не была сильно верующим человеком, но она очень трепетно относилась к православным традициям. Например, она каждый год 19 января ходила в церковь за святой водой. Ни в Бескудникове, ни в Коптеве своего храма не было, поэтому ездить приходилось далеко, либо на Новослободскую, либо на Сокол. А тут оказывается есть церковь неподалёку. Я немедленно изложил бабушке новую мысль:
– А ты ходи сюда за святой водой! Зачем тебе на Сокол ездить!
– Даже и не знаю! Ещё не известно, работает ли эта церковь!
У меня тут же вспыхнула очередная идея.
– Бабушка, а пошли, дойдём до этой церкви! Посмотрим, работает или нет!
– Да ты, что, умом рехнулся! – ужаснулась бабушка. – Да это даль несусветная! Куда мы пойдём?
Я сощурился на ярком солнце, приложил ладонь козырьком к глазам. Да уж, бабушка точно права. Расстояние и впрямь не маленькое. Всматриваясь в силуэт церквушки на фоне ясного неба, я вдруг обнаружил странный эффект. Стоило сделать шаг влево или шаг вправо и купол исчезал из вида. Я основательно походил по пляжу, пытаясь с разных мест увидеть купол, но все мои попытки оказались тщетными. Церковь была видна только с одного пятачка, размером не более метра. Не мало удивившись такому явлению, мы двинулись дальше, к набережной.
Водопад мы всё-таки посмотрели, хотя он оказался вовсе и не водопад, а обыкновенный водосброс. Правда, очень бурлящий и устрашающий. А вот таинственная церковь теперь не выходила у меня из головы. Как же интересно рассмотреть её по ближе. Эх, если б не моя близорукость… И дойти до неё действительно не реально. В этой ситуации меня бы выручил хороший бинокль!.. Да, мощный полевой бинокль!
И я загорелся новой безумной мечтой…
***
Отец Алексей и я начали осторожно спускаться по крутой лестнице вниз. Батюшка шёл первый, озаряя дорогу ярким фонарём. Лестница скрипела, неприятно покачивалась, перил не было, приходилось придерживаться руками за ступеньки. Сделалось немного жутковато, когда люк остался наверху, а меня со всех сторон окружила тягучая сырая мгла. Отец Алексей освещал путь только перед собой, я спускался вслед за ним задом-наперёд в полном мраке и только молился про себя, чтобы лестница не развалилась, чтобы не оступиться и чтоб этот спуск оказался самым сложным за весь дальнейший путь.
…Неделю назад я познакомился с одним диггером по имени Андрей. В Интернет-сообществе любителей исследовать пещеры, катакомбы, метро и заброшенные коллекторы Андрей слыл настоящим асом-проводником. Он набирал целые группы и устраивал настоящие экскурсии по подземному миру столицы. Мы встретились в его так называемом «офисе», огромном ангаре на территории складских помещений. Ангар завален всевозможным снаряжением для подземных экспедиций под самый потолок. Развернулся он здесь, видно, на «широкую ногу». Чего только у него нет. Фонари, каски, акваланги, спасательные жилеты, канаты, полиспасты, рации, альпинистское оборудование. Такому оснащению МЧС позавидует!
Андрей оказался человеком довольно приятной внешности, несмотря на рыжую бороду, и такие же рыжие длинные волосы, завязанные в хвост. На вид ему лет сорок. Я сразу обратил внимание на его корёженные стёртые пальцы. Наверняка бывший альпинист.
Едва я поздоровался с ним, как Андрей тут же предложил мне кофе. Я хотел было отказаться, но Андрей сказал, что кофе у него необыкновенный, и без этого напитка богов он даже и не будет со мной разговаривать. Сварил он его на какой-то примитивной плитке в старом-престаром кофейнике. Пока кофе закипал, я начал рассказывать ему цель своего визита. Альпинисты, дайверы и особенно диггеры мне всегда представлялись людьми очень серьёзными, суровыми, но Андрей совершенно не походил на таких. В разговоре он постоянно улыбался, шутил и вообще казался очень жизнерадостным и весёлым. Через пять минут общения мы уже перешли на «ты». Я отметил, что у него ещё и незаурядные знания в области археологии и истории. Андрей почему-то был убеждён, что я пришёл к нему с просьбой устроить мне экскурсию в какой-нибудь военный бункер времён СССР или показать мистическое Метро-2, но, когда он узнал, что я хочу исследовать заброшенный тоннель под колокольней Казанского Головинского монастыря, он сразу как-то помрачнел. Его лицо изменилось, от прежней весёлости не осталось и следа.
– Саш, а зачем тебе этот тоннель? – спросил он, пристально глядя мне в глаза.
– Хочу написать научную работу по истории этого монастыря. Хочу сам посмотреть на тоннель. Может там найдутся какие артефакты, интересно увидеть старинную кладку и как вообще построен тоннель! – невозмутимым тоном ответил я. Я уже заранее был готов к такому вопросу.
– Кандидатская? – в его глазах промелькнул огонёк восхищения и заинтересованности.
«Нет, про диссертацию соглашаться нельзя! – отметил я про себя. – Сейчас живо спросит из какого я института! Такого не проведёшь! Он все исторические институты знает!»
Я улыбнулся и всё так же невозмутимо ответил:
– Не, это уже позади! Хочу написать научную статью в журнал!
Андрей помедлил с ответом. Видно было, что он не очень доверяет моим словам. Я заметил, как он колебается, как внутри него происходит какая-то борьба.
– Знаешь, Саш, боюсь я здесь не смогу тебе помочь! – смущённо ответил он. – Я не хожу в этот тоннель и не знаю, как в него попасть! Все входу туда замурованы!
– Да брось, Андрей! Да ты и не знаешь, как туда попасть? Ты исследовал все подземелья Москвы! Ты был там, куда ни одна спецслужба не может проникнуть! И вдруг не знаешь, как залезть в старый тоннель?
Андрей нервно закрутил головой.
– Эх, Саш, брось эти глупости про статью! Ты хоть знаешь, что находится в этом тоннеле?
– Вот и хочу посмотреть!
Он закрыл глаза, откинулся на спинку кресла, усмехнулся:
– А… Ну да, конечно, знаешь! Мне это следовало сразу понять! Ладно… Есть один человек, который может показать тебе тоннель. Отец Алексей, пресвитер в храме Аксиньино. Я ему твой телефон дам. Если захочет показать, сам позвонит! Об оплате договоришься с ним лично! А мой тебе совет… лучше тебе не видеть, что спрятано в том подземелье!
Меня не испугали его слова. Я встал и горячо пожал ему руку. А кофе у него действительно оказался чертовски вкусным!
…От размышлений меня оторвал голос отца Алексея:
– Осторожней, лестница заканчивается!
Ну вот, наконец-то, я чувствую твёрдую землю под ногами. Несомненно, мы спустились в подклет. Внезапно вспыхнул яркий свет. Это отец Алексей включил электрическое освещение. Я огляделся вокруг. Ничего себе! Высота сводчатого потолка метров пять! Со всех сторон вижу стены из красного кирпича. Кладка старая, ещё начала двадцатого века, но в ней чувствуется какая-то несокрушимая сила и крепость. Она как скала, как монолит. Теперь я понимаю, почему эта колокольня так и осталась стоять – её просто не смогли снести! Ни одной современной машине не справиться с такой задачей!
Помещение почти пустое, если не считать сложенных в углу ящиков непонятно с чем. На одном из них горкой лежат старые лампадки. А прямо напротив лестницы, по которой мы спустились, огромная полукруглая арка, загороженная резными воротами. Отец Алексей вновь достал связку ключей и принялся отпирать ворота.