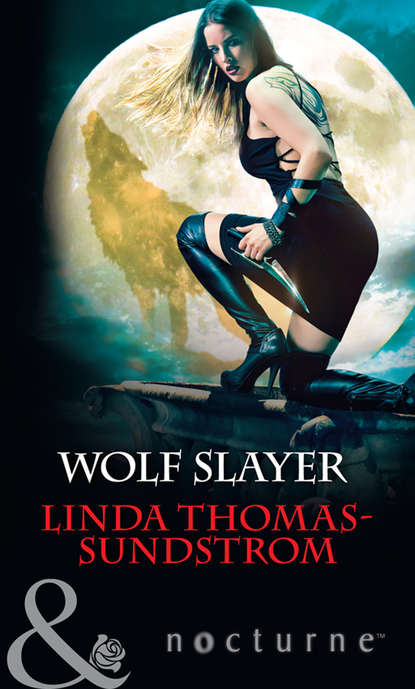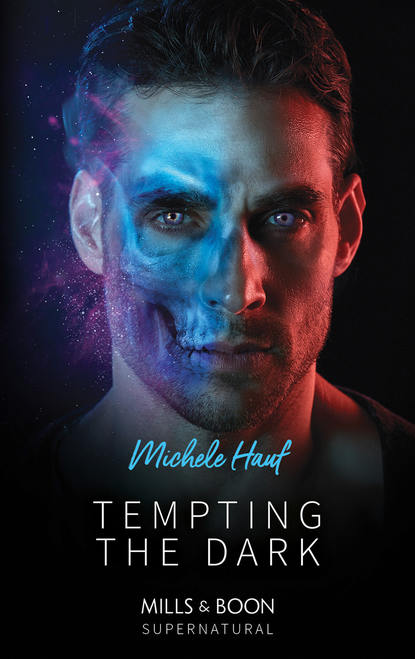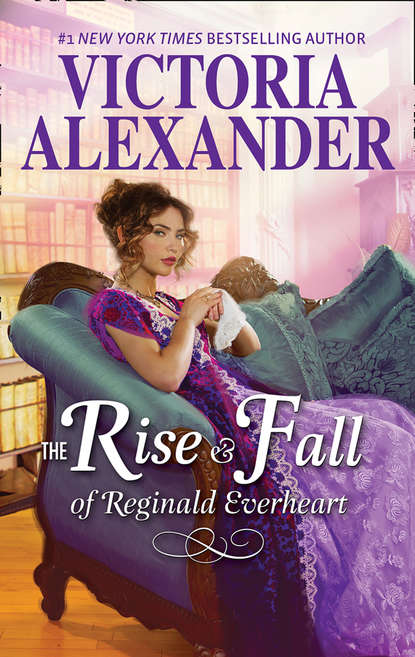- -
- 100%
- +

Глава 1 Тётушка
ТЁТУШКА
1.1
Фирменный пассажирский поезд плавно причалил к железнодорожному вокзалу, остановился на первом пути.
Из вокзальных динамиков, невидимых глазу, полилась музыка – ею по традиции встречали фирменный состав. В прозрачном, полном света, утреннем воздухе зазвучало «В жизни раз бывает восемнадцать лет».
Женщина пела как будто плакала.
Поезд увозил в Москву молодых и сильных, мечтающих о лучшей жизни. На нем возвращались на родину разочарованные и усталые.
Среди тех, кто в это синее апрельское утро сошел на перрон полумиллионного Колдамыса, был и Всеволод Сергеич Калиткин.
Среднего роста, стройный, с прямой спиной, с правильными чертами лица мужчина.
Мужчина-бабочка, потому что когда он шёл, то стопы ставил под углом, развернуто, и ноги у него были длинные, сильные – возможно, когда-то он занимался танцами. Подбородок приподнят, как будто губы подставлены под поцелуй.
Одет Всеволод Сергеич был легче, чем по погоде. Черные джинсы, белые кроссовки, джинсовая куртка. За плечами – не слишком большой рюкзак. В руках – добротная, видно, что новая, спортивная сумка. Многоразовая маска для защиты от коронавируса съехала на подбородок.
Русская писательница, она же феминистка Мария Арбатова полагала, что человека характеризуют возраст и профессия.
Всеволоду Сергеевичу было немногим за пятьдесят. А что касается профессии… В последнее время он сменил немало мест работы. Говорить об этих работах Всеволод Сергеевич избегал. Что говорить? Склады, магазины, доставка… Бездушная система высасывания сил. Новое русское рабство. …
Красивый голос на фонограмме, накрывая перрон и окрестности, продолжал страдать о том, что любовь и молодость скоротечны. На фоне вокзальной толпы, с ее бытовой суетой, это философское послание от тоскующей женщины придавало всему происходящему оттенок сюрреализма.
Вместе с толпой прибывших и встречающих Всеволод Сергеевич обогнул здание вокзала, попав на привокзальную площадь, где уже караулили свою добычу желтые машины такси. Здесь, на просторе, небо было высоким, площадь напоминала блюдо (а если блюдо, значит – хлеб-и-соль, то есть ждали тебя, волновались), и на Всеволода Сергеевича наконец-то снизошла радость от свидания с малой родиной.
Его родной Колдамыс, ну, здравствуй!
Большинство зданий на противоположном «берегу» площади он помнил. Это были соразмерных пропорций жилые дома и административные здания дореволюционной и сталинской постройки, от которых веяло надежностью и спокойствием. Ближе к вокзалу сорняками взошли новоделы. Какой-то двухэтажный уродец, вероятно, ночной клуб – нечто странное, архитектурно нервное, с нелепыми башенками. За зданием ночного клуба тянулся унылый ряд торговых точек по приготовлению шаурмы.
В одной из этих забегаловок Всеволод Сергеевич прикупил пару чебуреков, закинув деньги на смартфон черноволосому продавцу, плохо говорившему по-русски.
Чебуреки стоили дешевле, чем на Казанском вокзале, и пахли яростно. Калиткин с удовольствием их прикончил, шагая на остановку общественного транспорта, и на троллейбусе поехал на улицу Мыльную. В квартиру, ставшую его собственностью по завещанию тётки.
1.2
Тётушку звали Мотей. Она была младшей из трех сестер и самой веселой.
Всеволоду Сергеевичу врезалось в память, как однажды, уже будучи на тот момент в годах, что в глазах юного племянника приравнивалось к словам «серьезная» и «приличная», тётя Мотя, раздухарившись, взбежала по лестнице к себе на второй этаж, комично растопыривая ноги и переваливаясь.
Она пародировала соседку из другого подъезда, которую местные звали Клованяшкой.
Мама Севы была строгой и занятой, мальчик привык развлекать себя сам, а тут взрослый человек устроил для него спектакль! Благодарный Сева хохотал и восхищался. К тому же тётушка явно обладала артистическим талантом.
Но не все так однозначно. Та же самая Мотя напугала Всеволода Сергеевича на всю жизнь.
Как-то раз они собрались пойти на пляж. Переживая, что бойкий Сева уплывет, где глубоко, и не дай бог утонет, тётушка рассказала ему историю (рассказывала с круглыми от непонятного торжества глазами), как на городском пляже сколько-то лет назад якобы начали пропадать люди. Уже даже количество спасателей увеличили, но люди упорно тонули. По Колдамысу поползли нехорошие слухи.
К счастью для горожан, однажды в жару на проклятое место замело искупнуться приятелей, без пяти минут чемпионов страны по плаванию.
Один из двоих усвистал за буйки. И вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за ногу и тащит на дно.
– Но парень не растерялся и вступил с непонятной силой в схватку, – с непередаваемыми интонациями рассказывала тётушка. – Все тонущие паникуют и стараются выгрести на поверхность, а он, наоборот, нырнул, и в темноте, на ощупь, стал пинать ногами и раздирать руками что-то большое и скользкое. Тут подоспел второй. И вдвоем приятели вырвали у нападавшего кислородный шланг из куда он там вставляется, и уже этот нападавший, захлебнувшись, выскочил на поверхность, как пробка из бутылки. Короче, злодеем оказался водолаз. Приятели вытащили его на берег, и злодея повязали.
По словам тётушки, водолаз топил людей из-за денег. Он прятал тела в укромных уголках на дне, а потом, когда эти тела не могли обнаружить, и поиски прекращались, намекал родственникам, что готов поработать ещё, но, конечно, не безвозмездно. Дошедшие до кондиции родственники, естественно, соглашались, тело «находилось», и водолаз клал в карман четвертной (а 25 рублей в советское время были деньги).
– Водолазу дали высшую меру – расстрел!
Тётушка хотела как лучше, хотела предостеречь неопытного племянника от беды.
Тогда маленький Сева не впечатлился, наоборот, он иронизировал над Мотиными страшилками.
Зато потом, когда подрос, стрела достигла цели. Плавать в реке или в пруду Сева не мог. Ему мерещилось, что там, в непрозрачной толще воды, к нему подбирается алчный водолаз, чтобы схватить за ногу и утащить на глубину.
Он плавал только у берега, где можно в любую минуту встать на дно, крепко упереться в него ногами, и не достаться водолазу. Ещё он не боялся плавать в море, где вода была прозрачной.
Кстати, история такая в реальности случилась. Правда, не в Колдамысе, а в соседнем Сарлее или, может быть, в Сармони. Всеволод Сергеевич, уже будучи взрослым, прочёл об этом в интернете.
И таких историй имелось у тётушки воз и маленькая тележка.
Ещё он запомнил про замёрзшего мальчика из детского сада. Про то, как однажды утром сторож, явившись на работу, нашел в беседке скрючившееся тельце, в одних только шортиках и футболочке, хотя уже в свои права вступала осень. У мальчика на пояснице был хирургический надрез.
Тётушка победоносно смотрела на племянника, мол, просекаешь фишку?
– Э…? – племянник почувствовал себя двоечником, не приготовившим урока.
– Не догоняешь?
– Неа!
– У него вырезали почку!
Над страной сгущались девяностые, но из сознания ещё не выветрилось, что человек человеку друг, товарищ и брат. Тётушкины пугалища не соответствовали привычной картине мира.
– А зачем вырезали почку? – силился уловить логику Всеволод Сергеич. – Хирург вырезал?
Тётушка закатывала глаза, мол, здоровенный лоб вымахал, а всё еще наивный, как бабочка!
Когда-то Севе делали операцию хирурги. Аппендикс удалили, он учился в первом классе. Про хирургов он знал – люди в белых халатах, золотые руки, «Сердце хирурга» Федора Углова. Зачем этим героическим профессионалам вырезать почку у дошколёнка?
Наверное, тётушка что-то ему ответила тогда, но он позабыл. В памяти осталось только инопланетное неправдоподобие самой ситуации. Фирменный Мотин тон. Торопливое облизывание губ с характерным причмокиванием…
Тётя Мотя не выходила замуж, у нее не было детей.
Севочку ребенком часто подбрасывали к одинокой родственнице. Мотя радовалась. Стелила Севе на перину его любимую простыню с забавными ежиками, укладывала спать на две подушки.
Дома Сева спал на диване, который для него не раскладывали.
Нет, на половинке дивана тоже было хорошо, но слаще, чем в детстве у тёти Моти, Всеволод Сергеевич нигде не спал.
Она любила племянника. Но он, когда вырос, уже редко к ней приезжал.
К счастью, тётя Мотя была из тех оптимистичных натур, которые благодарны судьбе практически за любой расклад.
Ее не ожесточило ни одиночество, ни скромный социальный статус – до выхода на пенсию тётушка работала кастеляншей в ресторане. Она много общалась со сверстницами, ходила к ним в гости и с удовольствием сама принимала гостей. Здоровье не подводило. Тётя Мотя вознеслась на высший уровень человеческой мудрости, или добродетели – жить, не отравляя жизни другим, не перекладывая отчаяние или агрессию на ближнего своего, не поучая и не командуя.
Даже состарившись, тётя Мотя не перестала радовать людей. Словно молодая девушка со здоровой психикой, она выслушивала жалобы, сочувствовала, утешала.
Умерла Матильда неожиданно. На скорой сказали – инфаркт. Наверное, она даже не поняла, что произошло, а ее душа уже вознеслась на небеса.
1.3
До Мыльной на троллейбусе было максимум полчаса.
Дом тётушки располагался на перпендикуляре, проведенном от здания дореволюционного губернаторского дома к речке Колдамыске. Эти места были самым что ни на есть сердцем города, его историческим центром, Колдамысом изначальным.
Но дело в том, что понятие центра во многом определяется тем, где расположено здание, в котором отправляет свои обязанности исполнительная власть территории.
И поскольку с середины ХХ века начальство перебралось из губернаторского дома в специально построенное типовое здание обкома, ныне – здание правительства Колдамыской области, восприятие центра города постепенно перетекло туда, на нижние кварталы улицы Московской.
Новый центр активно развивали. А здесь, на Мыльной и в её окрестностях, в райончике, прозванном в народе Казанкой, все было как встарь. В массовом сознании эти места воспринимались почти как окраина, как захолустье.
Что же касается реальных окраин, то их застроили многоэтажными домами. Яркие фасады, современные торговые центры, спортивные комплексы! И люди стали мечтать о новостройках. И покупать там квартиры. И считать, что это престижно.
А Казанка, сердце Колдамыса, по-прежнему представляло собой скопище деревянных и каменных бараков, не подключенных к городской канализации.
И здесь население только убывало.
В двухэтажном бараке, на два подъезда, по четыре квартиры в каждом подъезде, и обитала покойная Мотя.
Несмотря на то, что это было абсолютно непрестижное жилье, у человека с фантазией (чего-чего, а фантазии у Всеволод Сергеевич было хоть отбавляй) убогие домики из другой эпохи будоражили воображение, казались уютными. Здесь было хорошо и летом – почти поленовский «Московский дворик». А уж зимой, когда валили снега, мела искристыми крыльями январская вьюга, там, за маленькими окошками, светилось счастье – ибо тепло, и просто, и с котом, вальяжно развалившимся на ватном одеяле и замышляющим ночной тыгыдык.
Да, здесь было бы здорово пожить. Не насовсем. Потому что ежели в такое жилье переехать насовсем, то лучше удавиться.
Тётушкин дом был каменным, с бледно-зеленой штукатуркой на внешних стенах.
Фасадную стену дома почти полностью закрывал небольшой садик, с несколькими яблонями, довольно дремучий. По внешнему периметру садика тянулся подгулявший металлический забор самого банального рисунка – вверх торчали железные пики, давая возможность прохожим смотреть на клочок зелени за решеткой.
Впрочем, смотреть было особо не на что – заросли кустов, бурьян, корявые яблони. С концов забора, примыкавших к бараку, имелись калитки, запертые изнутри на щеколды, их можно было легко открыть, просто через пики просунув руку.
На сад выходили два балкона на втором этаже, один из которых был тётин Мотин. Правда, балконами пользоваться запретили, поскольку они были аварийными и могли рухнуть в любой момент.
С противоположной стороны дома, там, где в него вели подъезды, чуть дальше во дворе стояли сараи. А за ними находился общественный туалет, бетонная коробочка, которой теперь жители уже почти не пользовались, а вот в советское время – очень даже.
Всеволод Сергеевич прекрасно помнил его ужасы.
Замерзая, вода, как известно, расширяется, и в морозы из отверстий в полу туалета выползали разноцветные, всевозможных желтых и коричневых оттенков, заледенелые струи, похожие на корневища неведомых растений или щупальца космических монстров. Эти бугристые, толстые корневища заполняли собой весь пол вплоть до выхода на улицу…
Тётушкин барак врос в землю, порог подъезда просел ниже уровня асфальта, и дверной проем казался лазом в темную нору. Всеволод Сергеевич инстинктивно пригнулся, заходя внутрь.
Ещё он отметил, что дверь в подъезд была первозданная, деревянная, и войти в двухэтажку мог любой человек. Как в старое доброе время – никаких тебе кодовых замков, домофонов и прочих приспособлений, выдающих желание собственников отгородиться от мира.