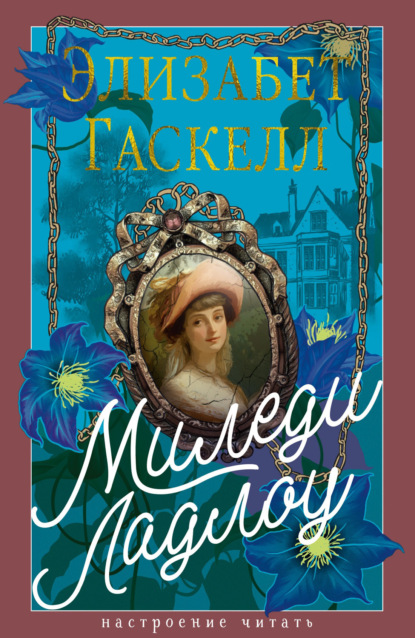Пурпурная Земля

- -
- 100%
- +
И даю зарок, я тоже стану заговорщиком, если останусь надолго в этой стране. О, во имя тысячи молодых уроженцев Девона и Сомерсета, что, как и я, находятся здесь и чей разум сжигают те же мысли! Какие славные подвиги мы совершим во имя человечества! Какую звонкую здравицу мы возгласим во славу старой Англии, а ведь слава эта меркнет! Кровь потечет по вашим улицам, как никогда не текла прежде, или, лучше сказать, текла лишь однажды, а было это, когда их начисто подмели британские штыки. А потом настанет мир, и трава будет зеленее, и цветы ярче после этого кровавого ливня.
Горше полыни и желчи горечь мысли о том, что над этими куполами и башнями там внизу, у меня под ногами, не более чем полстолетия назад реял честной крест святого Георгия! Ибо никогда не предпринимался столь священный крестовый поход, никогда не задумывалось завоевание, более доблестное, чем то, что имело целью вырвать эту прекрасную страну из недостойных рук и навсегда сделать ее частью могучего Английского королевства. Какими бы они могли быть сейчас – эта прекрасная страна, где не бывает зимы, этот город, господствующий над устьем величайшей в мире реки? И подумать только, ведь она была добыта для Англии, и добыта не низким предательством, не куплена золотом, а истинно на старый англосаксонский манер, в суровых боях, когда приходилось перебираться через груды тел мертвых противников; и после того, как она была так завоевана, она была утрачена – можно ли поверить? – сдана без боя, без всякой борьбы подлыми негодяями, недостойными имени бриттов! Я сижу один здесь, на вершине горы, и лицо мое горит огнем при мысли об этом – о блистательных возможностях, утраченных навеки! «Мы обещаем вам сохранение ваших законов, вашей религии и собственности под покровительством британского правительства», – высокомерно провозгласили захватчики – генералы Бересфорд, Эчмьюти, Уайтлок и их соратники; а ныне, потерпев одно лишь поражение, они (либо кто-то один из них) утратили мужество и обменяли страну, которую они оросили кровью и завоевали, обменяли на пару тысяч британских солдат, попавших в плен в Буэнос-Айресе, по ту сторону водного пространства; а затем, вновь взойдя на свои суда, они уплыли, покинули Ла-Плату навсегда! Эта сделка, которая, должно быть, заставила кости наших предков-викингов содрогаться в могилах от негодования, была забыта потом, когда мы завладели такой богатой добычей, как Фолкленды. Блистательное завоевание и славное возмещение нашей потери! Эта королева-столица была в нашей власти, власть укрепилась и близилась, может быть, уже к окончательному и бесповоротному обладанию этим зеленым миром, раскинувшимся перед нами; и тут мужество оставило нас, и желанная награда выпала из наших дрогнувших рук. Мы оставили солнечный материк, а взамен захватили безлюдное обиталище тюленей и пингвинов; и теперь пусть все, кто в этой части света стремится жить под «британским покровительством», которое Эчмьюти столь широковещательно проповедовал при вратах сей столицы, отправляются на эти уединенные антарктические острова слушать, как грохочут волны, разбиваясь о серые берега, и дрожать под холодными ветрами, дующими со студеного юга!
Покончив с произнесением этого грозного порицания, я почувствовал, что мне стало гораздо легче, и направился домой в приятном предвкушении ужина, который в этот вечер состоял из бараньей шейки, сваренной с тыквой, сладким картофелем и молочной кукурузой – вовсе не плохое блюдо для голодного человека.
Глава II
Сельские жилища и семейные очаги
Прошло несколько дней, и у моей второй пары башмаков пришлось уже второй раз сменить подметки, прежде чем планы доньи Исидоры касательно улучшения моих обстоятельств начали приобретать какую-то ясность. Возможно, она начинала подумывать о нас как о бремени, отягощающем ее привычный, довольно-таки скаредный домашний обиход; как бы то ни было, слыша, что я отдаю предпочтение сельской жизни, она дала мне рекомендательное письмо в полдюжины строк, адресованное Mayordomo, управляющему отдаленного скотоводческого хозяйства, где просила услужить автору письма, предоставив ее племяннику – так она меня назвала – какого-либо рода работу в estancia, имении. Весьма вероятно, она с самого начала знала, что это письмо на самом деле ни к чему не приведет, и дала его, просто чтобы отправить меня вглубь страны, а Пакиту удержать на неопределенное время при себе, поскольку она необычайно привязалась к своей красивой племяннице. Эстансия располагалась на границе департамента Пайсанду, не менее чем в двух сотнях миль от Монтевидео. Это было длинное путешествие, и меня предупредили, чтобы я даже не пытался его предпринять без tropilla, то есть табунка лошадей. Но когда местный уроженец говорит вам, что вы не сможете проехать двести миль без дюжины лошадей, он просто имеет в виду, что вы не сможете покрыть это расстояние за два дня; ибо ему трудно поверить, что кто-то сможет удовлетвориться менее чем сотней миль в день. Я поехал на одной-единственной лошади, так что путешествие заняло у меня несколько дней. Прежде чем я достиг пункта моего назначения, который назывался Estancia de la Virgen de los Desamparados, эстансия Святой Девы Бесприютных, со мной приключилось несколько происшествий, достойных упоминания, и я начал чувствовать себя настолько же у себя дома в областях Восточных, или Orientales, как ранее чувствовал в Argentinos.
К счастью, после того как я покинул город, западный ветер продолжал дуть весь день, неся по небу множество легких летучих облаков, умерявших солнечный жар, так что до вечера я смог покрыть немалое число лиг. Я держал путь к северу через департамент Камелонес и уже значительно продвинулся в глубь департамента Флорида, когда остановился на ночь на уединенном, неприглядного вида ранчо у старого скотовода, который жил там со своей женой и детьми в совершенно первобытных условиях. На подъезде к дому несколько громадных псов бросились на меня в атаку: один схватил моего коня за хвост и принялся таскать бедную скотину туда-сюда, так что конь зашатался и едва мог устоять на ногах; другой вцепился в удила чуть ли не прямо у него во рту; тогда как третий впился клыками в каблук моего сапога. Оценивающе поглядев на меня несколько мгновений, седой старик пастух с ножом длиною в ярд на поясе двинулся на выручку. Он прикрикнул на собак, а поняв, что слушаться они не намерены, подскочил и несколькими ударами, умело нанесенными тяжелым кнутовищем, отогнал их прочь, завывающих от ярости и боли. Затем он приветствовал меня с величайшей вежливостью, и очень скоро, когда конь мой был расседлан и отправлен пастись на воле, мы оба уже сидели, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом и попивая горький и освежающий мате, приготовленный для нас его женой. Пока мы разговаривали, я обратил внимание на бесчисленных летающих вокруг светлячков; никогда раньше я не видел их в таком множестве, зрелище было восхитительное. Немного погодя один из ребятишек, паренек лет семи-восьми, сияя от радости, подбежал к нам – в руке у него было одно из сверкающих насекомых – и завопил:
– Смотри, tatita, папочка, я фонарика, linterna поймал. Гляди, как горит!
– Святые да простят тебе, дитя мое, – сказал отец. – Иди, сынок, и посади его назад на траву, а если ты ему навредишь, духи рассердятся на тебя, ведь они гуляют по ночам и любят linterna за то, что те составляют им компанию.
Какое прелестное суеверие, подумал я; и каким мягким, сострадательным сердцем должен обладать этот старый скотовод с Востока, раз он выказывает столько чуткости в отношении одной из мельчайших тварей Господних. Я поздравил себя с тем, какой счастливый случай мне выпал негаданно встретиться с таким человеком в этих глухих местах.
Псы, после своего грубого поведения по отношению ко мне и постигшего их вслед за тем сурового наказания, возвратились и собрались теперь вокруг нас, разлегшись на земле. Тут я отметил, уже не впервые, что собаки, обитающие в таких пустынных местах, вовсе не готовы с тем же удовольствием принимать знаки внимания и ласку, как те, что живут в областях, более населенных и цивилизованных. В ответ на мою попытку погладить одну из этих угрюмых зверюг по голове пес показал зубы и дико на меня рыкнул. И все же это животное, хотя и столь свирепое нравом, и не ищущее никакой доброты у своего хозяина, ровно так же предано человеку, как и его благовоспитанные собратья в более населенных странах. Я заговорил об этом предмете с моим великодушным скотоводом.
– То, что вы говорите, верно, – отвечал он. – Вспоминаю, как-то во время осады Монтевидео, когда я в составе маленького подразделения был направлен следить за передвижениями армии генерала Риверы, мы в один из дней настигли человека, ехавшего на измотанной лошади. Наш офицер, подозревая, что это шпион, приказал его убить, и, перерезав ему глотку, мы оставили его тело лежать на голой земле примерно в двух с половиной сотнях ярдов от небольшого ручья. С ним была собака; когда мы сели в седла и тронулись, мы кликнули ее, чтобы шла с нами, но она не двинулась с того места, где лежал ее мертвый хозяин.
Тремя днями позже мы вернулись в ту же точку и нашли труп лежащим ровно на том же месте, где мы его бросили. Ни лисы, ни птицы не прикоснулись к нему, потому что собака была все еще там и охраняла его. Множество стервятников собралось поблизости, ожидая удобного случая, чтобы начать свое пиршество. Мы спешились, чтобы освежиться в ручье, потом стояли там с полчаса и наблюдали за собакой. Она казалась полумертвой от жажды и порывалась сбегать к ручью попить, но прежде, чем пес успевал сделать полпути, стервятники, по двое и по трое, начинали придвигаться, и тут он возвращался и лаем их отгонял. Отдохнув несколько минут у тела, он опять бежал к воде и снова, видя, как подступают голодные птицы, он устремлялся назад, к ним, яростно лая и пуская изо рта пену. Мы видели, как это повторялось раз за разом, и наконец, уезжая, мы снова попытались подманить собаку, чтобы она последовала за нами, но не тут-то было. Еще через два дня нам вышел случай опять проехать мимо этого места, и мы увидали, что пес лежит там мертвый рядом со своим мертвым хозяином.
– Боже мой, – воскликнул я, – какое ужасное чувство вы и ваши товарищи испытали, должно быть, при виде этого зрелища!
– Нет, сеньор, вовсе нет, – ответил старик. – Зачем же, сеньор, ведь я сам воткнул нож этому человеку в горло. Если мужчина в этом мире стал взрослым, а кровь проливать не привык, тяжелой ношей будет ему его жизнь.
«Какой бесчеловечный старый убийца!» – подумал я. Затем я спросил его, был ли в его жизни случай, чтобы он почувствовал раскаяние из-за пролитой им крови.
– Да, – ответил он, – я тогда был очень молод, и мне еще ни разу не пришлось окунуть оружие в человеческую кровь; осада тогда как раз только началась. Меня послали с полудюжиной людей на поимку хитрого шпиона, который наловчился ходить через линии траншей с письмами от осажденных. Мы пришли в дом, где, как донесли нашему офицеру, у него была тайная лежка. Хозяином дома был молодой парень лет двадцати двух. Он упорно ни в чем не сознавался. Столкнувшись с таким упрямством, наш офицер рассвирепел и велел ему идти прочь, да побыстрее, а потом приказал нам заколоть его пиками. Мы галопом отъехали ярдов на сорок, потом развернулись. Он стоял молча, с руками, сложенными на груди, с улыбкой на губах. Без крика, без стона, все с той же улыбкой на губах, он упал, насквозь пронзенный нашими пиками. Дни проходили за днями, а его лицо все представлялось мне. Я не мог есть, пища вставала мне поперек горла. Я подносил к губам кувшин с водой, а оттуда, сеньор, я отчетливо это видел, на меня смотрели его глаза. Я ложился спать, а его лицо опять было передо мною, всегда с той же улыбкой на губах, – казалось, он насмехается надо мной. Я не мог понять, что со мной. Мне сказали, что меня мучает совесть и что это скоро пройдет, потому что нет такой боли, которой время не излечивает. Мне сказали правду, и, когда это ощущение исчезло, я опять был на все готов.
Мне так тошно стало от истории, рассказанной стариком, что я поужинал без аппетита и дурно провел ночь, то просыпаясь, то снова задремывая, но все думая о том молодом парне в этом глухом углу вселенной, который, сложа на груди руки, усмехался в лицо душегубам, когда те его убивали. На другое утро спозаранку я приветливо попрощался с моим хозяином, благодаря его за гостеприимство и искренне надеясь, что никогда больше не увижу его ненавистное лицо.
Я мало продвинулся в тот день, палило, и моя лошадь совсем обленилась. Проехав около пяти лиг, я передохнул пару часов, потом снова пустился вялой рысью, пока во второй половине дня не спешился у стоящей на обочине дороги pulperia, иначе говоря лавки и трактира в одном лице, где несколько местных потягивали ром и переговаривались. Перед ними стоял бойкого вида старик – я говорю, старик, потому что кожа у него была высохшая и потемневшая, хотя волосы и усы были черны как смоль; чтобы поклоном поприветствовать меня, он на миг отвлекся от разговора, в который то и дело вставлял словцо, потом, окинув меня испытующим взглядом своих темных ястребиных глаз, вернулся к разговору. Заказав ром с водой, под стать здешним вкусам, я сел на лавку, закурил сигарету и приготовился слушать. На старике был поношенный наряд гаучо – хлопковая рубашка, короткая куртка, широкие хлопковые же рейтузы и chiripa, облачение вроде шали, перехваченное на талии кушаком, а внизу спускающееся до середины ноги между коленом и лодыжкой.
Вместо шляпы он носил хлопчатобумажный платок, небрежно повязанный на голове; левая нога у него была босая, а правая обута в чулок из жеребячьей кожи, называемый bota-de-potro, и к этой привилегированной ноге была прицеплена здоровенная железная шпора с шипами длиною в два дюйма. Одной такой шпоры, надо полагать, более чем достаточно, чтобы пробудить в лошади всю энергию, какая в ней только есть. Когда я вошел, он разглагольствовал на довольно избитую тему о силе судьбы в сравнении со свободной волей; аргументы его, однако, не были обычными сухими абстракциями, но имели форму примеров, преимущественно его личных воспоминаний или странных случаев из жизни людей, ему известных, и до того живыми и обстоятельными были его описания, блистающие страстью, сатирой, юмором, пафосом, и с таким драматизмом он разыгрывал сцену за сценой, в то время как одна чудесная история сменяла другую, что я был просто поражен и решил про себя, что этот подвизающийся в пульперии старый оратор – какой-то гений-самородок.
Прервав свою речь, он уставился на меня своими проницательными глазами и сказал:
– Друг мой, я так понимаю, вы держите путь из Монтевидео: могу я спросить, что нового в этом городе?
– О каких новостях вы надеетесь услыхать? – сказал я и сразу сообразил, что вряд ли прилично отделываться пустыми общими фразами, отвечая этой диковинной старой восточной птице, с ее, пусть потрепанным, опереньем, но притом и с таким безыскусным обаяньем природного песенного дара. – Там снова все одна и та же старая история, – продолжал я. – Говорят, скоро будет революция. Одни уже попрятались по домам, а предварительно мелом написали на дверях большими буквами: «Войдите, пожалуйста, в этот дом и перережьте хозяину глотку, дабы он упокоился в мире и больше не страшился того, что может произойти». Другие взобрались на крыши и занимаются разглядываньем луны в подзорную трубу, считая, что заговорщики укрылись на этом светиле и только и ждут, что найдут на него тучи, а они тогда спустятся в город незамеченными.
– Точно! – завопил старик и забрякал по прилавку пустым стаканом, как бы восхищенно аплодируя.
– Что пьешь, друг? – спросил я, посчитав, что такая пылкая оценка моей гротескной речи заслуживает угощения, и желая раззадорить его еще больше.
– Ром, дружище, благодарю. Как говорится, зимой согреет он тебя, а летом он тебя остудит – что тебе больше нравится?
– А вот посоветуй-ка, – сказал я, когда лавочник снова наполнил его стакан, – что я должен говорить, когда вернусь в Монтевидео и меня спросят, что нового во глубине страны?
Глаза старикана блеснули, остальные тем временем примолкли и глядели на него, будто предвкушая, как он отличится, отвечая на мой вопрос.
– Скажи им, – отвечал он, – что ты повстречал старика – объездчика лошадей по имени Лусеро – и он тебе рассказал вот такую байку, чтоб ты ее повторил горожанам.
Росло когда-то в этой стране большущее дерево, и называлось оно Монтевидео, а в ветвях у него жила стая обезьян. И вот как-то раз одна обезьяна спустилась с дерева и в восторге понеслась по равнине, то ковыляя, как человек на четвереньках, то выпрямляясь навроде собаки, которая бежит на задних лапах, а хвосту ее при этом не за что было ухватиться, вот он и болтался-извивался, как змея, головой к самой земле. И вот прибежала она в одно место, а там быки паслись, и лошади, и еще страусы, олени, козы, и свиньи. «Друзья мои, – закричала обезьяна, скалясь, как череп, и вытаращив круглые, как доллар, глаза, – послушайте, какие новости! Новости-то какие! Я к вам пришла рассказать, что скоро будет революция». «Где?» – спрашивает бык. «На дереве – где же еще?» – отвечает обезьяна. «А это нас не касается», – говорит бык. «Еще как касается, – кричит обезьяна, – она ведь скоро пойдет по всей стране, и вам всем глотки перережут». А бык в ответ: «Вот что, обезьяна, иди-ка ты обратно и отстань от нас со своими новостями, а то как бы мы не разозлились да не пошли и не взяли вас там в осаду на вашем дереве, как не раз уж нам приходилось делать, с тех пор как мир стоит; а потом, коли ты и твои обезьяны сойдете с дерева, мы вас на рога подденем».
Басня эта произвела сильное впечатление: с такой изумительной картинностью старик изобразил нам голос и жестикуляцию болтающей, захлебываясь от волнения обезьяны и величественный апломб быка.
– Сеньор, – продолжал он, когда хохот приутих, – я не хочу, чтобы кто-нибудь из моих друзей и близких, здесь присутствующих, пришел к заключению, что я тут наговорил чего-то для кого-то обидного. Если бы я посчитал вас за жителя Монтевидео, я бы не поминал про обезьян. Но, сеньор, хотя вы и говорите по-нашему, а в говоре вашем все же есть какой-то перец с солью и дают они явственный иноземный привкус.
– Вы правы, – сказал я, – я иностранец.
– В чем-то, друг, да, вы иностранец, поскольку родились, без сомнения, под иными небесами; но вот что до главного свойства, которым, думается, Творец наделил нас в отличие от людей других земель – а это способность душою родниться с людьми, которые вам повстречаются, одеты ли они в бархат или в шкуры овечьи, – вот в этом вы один из нас, чистокровный Oriental, житель Востока.
Я улыбнулся его тонкой лести; возможно, то была всего лишь отплата за ром, которым я его угостил, но мне было оттого не менее приятно, и к другим качествам его ума я был теперь склонен добавить еще поразительное умение как по писаному читать в чужой душе.
Немного погодя, он пригласил меня провести ночь под его крышей.
– Конь у тебя толстый и ленивый, – сказал он, и это была правда, – и если только ты не родня совиному семейству, то сильно далеко тебе до завтра не уехать. Домишко у меня непритязательный, но баранина там сочная, огонь жаркий, а вода холодная, не хуже, чем в любом другом месте.
Я с готовностью принял его предложение, желая по возможности ближе узнать личность, столь оригинальную, и, прежде чем отправиться к нему, прикупил бутыль рома; тут глаза его так заблестели, что мне пришло в голову: имя его, Лусеро (заря), подходит ему как нельзя более. От лавки до его ранчо было около двух миль, мы поехали верхами и всю дорогу туда неслись таким диким галопом, каким до того мне скакать не доводилось ни разу. Лусеро был domador, то есть укротитель лошадей, и тварь, на которой он ехал, была, наверное, самой необъезженной и норовистой изо всех тварей. Между лошадью и человеком все время бушевала лютая борьба за господство: лошадь внезапно вставала на дыбы, взбрыкивала и пускалась на все мыслимые уловки, чтобы избавиться от своей ноши, а Лусеро с неиссякаемой энергией потчевал ее плетью и шпорами, изливая на нее при этом потоки небывалых эпитетов. В какой-то момент они едва не врезались в мою старую мирную скотину, а в следующий между нами уже было ярдов пятьдесят; и все это время Лусеро не прекращал говорить, поскольку, когда мы еще только тронулись, он приступил к очень интересной истории и упорно, несмотря ни на что, придерживался нити своего рассказа, подхватывая ее после каждой очередной серии проклятий, обрушенных им на свою лошадь, и возвышая голос почти до крика, когда нас разносило слишком далеко. Выносливость старикана была совершенно необычайной: когда мы подъехали к дому, он с воздушной легкостью спрыгнул наземь и казался свеж и невозмутим как ни в чем не бывало.
В кухне несколько человек потягивали мате, это были дети и внучата Лусеро, и с ними его жена, старая седая подслеповатая дама. Мой же хозяин, хотя сам был стар годами, но, подобно Улиссу, в душе продолжал сохранять негасимый огонь и энергию юности, тогда как спутницу его жизни время наделило немощами, морщинами и сединами.
Он представил ей меня в манере, от которой я так застеснялся, что меня бросило в краску. Встав перед нею, он сказал, что встретил меня в пульперии и задал мне вопрос, с каким всякий старый простак-деревенщина пристает, должно быть, к каждому проезжему из Монтевидео – что там, дескать, за новости? Затем, взяв сдержанный сатирический тон, воспроизвести который мне не удалось бы, практикуйся я хоть годами, он перешел к изложению моего фантастического ответа, обильно украшая его чудной отсебятиной.
– Сеньора, – сказал я, когда он кончил, – вы не должны ставить мне в заслугу все, что вы услышали от вашего мужа. Я только снабдил его грубой шерстью, а он соткал из нее ради вашего удовольствия прекрасное сукно.
– Слышала? Каково? Разве я тебе не говорил, Хуана, чего от него ждать? – воскликнул старик, отчего я покраснел еще сильнее.
Потом мы сели пить мате и перешли к спокойной беседе. В кухне на конском черепе – обычный предмет мебели на восточных ранчо – сидел мальчик лет двенадцати, один из внуков Лусеро, с очень красивым лицом. Он был бос и плохо одет, но его кроткие темные глаза и оливковое лицо имели то нежное, слегка меланхоличное выражение, которое часто можно увидеть у детей испанского происхождения и которое всегда бывает таким необыкновенно пленительным.
– Где твоя гитара, Сиприано? – спросил, обращаясь к нему, его дедушка, после чего мальчик поднялся и сходил за гитарой, которую сперва вежливо предложил мне.
Когда я отказался от нее, он снова уселся на изглаженный до блеска конский череп и сам принялся играть и петь. У него был приятный мальчишеский голос, и одна из его баллад настолько захватила мое воображение, что я попросил его повторить мне слова, чтобы я записал их в свою записную книжку; это доставило большое удовольствие Лусеро, который, очевидно, гордился талантами мальчика. Привожу эти слова в почти буквальном переводе, стало быть без рифм, и жаль только, что я не в силах донести до моих музыкальных читателей ту причудливую, заунывную мелодию, на которую они пелись.
О, дай уйти мне – отпусти туда, Где высоко в горах берут начало Ручьи и радостно бегут на юг Средь муравы широкой степью, Рогатые олени к ним идут, чтоб жажду утолить, Они ж торопятся на встречу с огромным синим океаном.
Скалистые холмы, холмы С лазурными цветами на утесах, Там скот пасется без тавра, ничей; И бык, царь стад, там кажется Величиной с мою ладошку, Когда скитается в высотах, среди круч.
Как хорошо они знакомы мне, как хорошо знакомы
Господни те холмы, и хорошо я им знаком; Когда я там, они хранят покой, Но если там появится чужак, Над их вершинами сойдутся грозовые тучи И грянет над землей гроза.
А если скажешь: нет, а если нет, То как печально прозябать одной Моей душе придется в городе, в плену, Томясь по вольным и пустынным далям; Красны от крови улицы, и в страхе Бледнеют скорбных женщин лица.
Вдаль унеси меня, вдаль унеси, Мой быстрый, крепконогий, верный конь: Я кладбищ не люблю, Но я уснуть хотел бы на равнине, Там пышная зеленая трава волнами будет вкруг меня ходить, И дикие стада кругом пастись там будут.
Глава III
Наброски для пасторали
На другое утро, спозаранку покинув ранчо красноречивого старого объездчика, я продолжил свой путь и весь день спокойно ехал медленной рысью; я оставил позади департамент Флорида и вступил в пределы департамента Дурасно. Здесь я прервал свое путешествие на эстансии, где мне представилась превосходная возможность изучать нравы и обычаи жителей Востока и где я, кроме того, подвергся испытаниям несколько иного характера и значительно расширил свои познания о мире насекомых. Дом этот, куда я прибыл за час до захода солнца, дабы попросить приюта («позволение расседлать лошадь» – так это называется у путешественников), являл собой длинное, низкое строение, крытое камышом, но имевшее низкие, чудовищно толстые стены, сложенные из камня, добытого в соседних горах, sierras; куски камня были всевозможных форм и размеров, и снаружи все это выглядело чем-то наподобие неровной каменной ограды. Как эти булыжники, беспорядочно нагроможденные, без связующего их между собой цемента, не развалились, осталось для меня тайной; еще труднее было понять, почему эту грубую кладку, всю в бесчисленных, забитых пылью впадинах и щелях, с внутренней стороны ни разу не попытались заштукатурить.