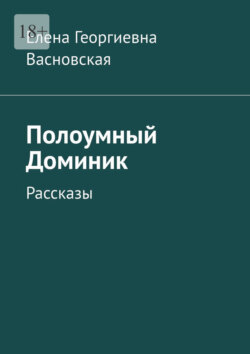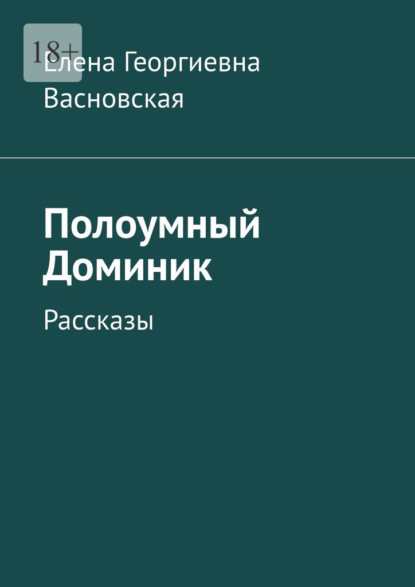© Елена Георгиевна Васновская, 2025
ISBN 978-5-0065-5195-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Старые Ладушки
– Леночка, ты хочешь слушать по вечерам соловьёв?
– Да!
– А пить чай из самовара? А спать на настоящей русской печи?
– Да! Да! Да!
Конечно, Леночка очень этого хотела. Она ещё не ходила в школу, но уже успела устать от городской суеты. Во всяком случае, её бабушка Лёля и подруга бабушки тётя Тата довольно часто говорили о городской суете, и Леночка с ними соглашалась.
И вот они втроём гуляют по окрестностям деревни Старые Ладушки.
Старые Ладушки… Тут от одного названия запоёшь какую-нибудь красивую русскую песню, и бабушка с её подругой заводят чистыми звонкими голосами:
Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это русское раздолье,
Это русская земля!
За деревней поле с колосьями и васильками, через поле тянется телесного цвета дорога, редко обсаженная берёзами. Колеи ведут к кружевной кайме леса. Земля вместе с лесом бугрится, превращается в подобие моря с гигантскими зелёными волнами. В этих волнах, как отражение, опять мелькают далёкие поля и на горизонте – другая деревня, Новые Ладушки, там можно разглядеть белые развалины церкви. Общее на эти два оплота цивилизации голубое небо и… больше нигде ничего. Только «трели жаворОнка», как поётся в той же песне, да зайцы бегают по полю, почти не боясь зачарованной троицы дачников. Местные говорят, что зайцев привлекает неубранная с прошлого года морковь. Гниющие овощи свалены у деревни в огромную кучу. Местные на поле никогда не появляются, а в лес в начале лета ходить нет надобности. Они ходят только на общий колодец-журавль в центре деревни, многие – с самыми настоящими коромыслами, которые Леночка до этого видела только как картинки к сказкам.
Иногда в Старые Ладушки приезжает фургончик-автолавка. Дорога, ведущая из Новых Ладушек, начинает пылить, народ заранее выстраивается в очередь на площади у колодца, час-другой общается, перешучивается, обменивается новостями.
На другом конце Старых Ладушек – развалины барской усадьбы и чёрно-зеркальное озерцо, образованное запруженным ручьём. Там всегда полумрак и прохлада и бесконечно шумит водопад. Там всё заросло сиренью. Её так много, что на дорожках скользко из-за опавших лепестков. Леночке запрещают ходить туда одной: взрослых пугает глубокая ледяная вода и разрушающиеся кирпичные своды. Бабушка и её подруга гулять в парке не любят, он внизу, спустишься – потом трудно подниматься. Зато как раз в нём проводят время все деревенские дети: купаются в запруде, играют в развалинах в прятки. Леночка с ними не ходит: ребята постоянно зовут её туда, а ей ведь запрещено. Они смеются, что Леночка слушается бабушку, не понимают и не одобряют такой покорности. Ну и пусть. Леночка даже рада, что в Старых Ладушках ей не нужно налаживать общение со сверстниками: это нелёгкое дело её всегда утомляет.
Гораздо больше Леночку привлекают животные: она родилась натуралисткой, а животные, к её восторгу, живут прямо в доме. Открываешь дверь, а за ней – полутёмное помещение, где справа, за дощатой загородкой, переступает с ноги на ногу и вздыхает огромная белая с коричневым корова, а слева мекают две козы. Их зрачки, как знаки минус, это очень странно. Они любят, когда Леночка кормит их хлебом. У коз влажное тёплое дыханье. Впрочем, днём все они уходят пастись. Наверху в этом волшебном доме помещаются куры, иногда кричат там истошно. Лазать к ним наверх по шаткой лесенке тоже запрещено, но если смотреть снизу, несушек можно увидеть на краю светлого люка. Они с любопытством смотрят на людей, озабоченно поворачивают головы со стороны на сторону. Сквозь щели в досках сверху падает сено и красивые оранжевые перья. Из перьев и пластилина Леночка делает себе игрушечных птиц.
Пройдя сквозь этот ежедневный бесплатный зоопарк, попадаешь в жилые комнаты. Там бОльшую часть пространства занимает огромная русская печь. Ночью Леночка спит прямо на этой печи, поверх старых тулупов и одеял. Иногда к ней приходит спать сердитый зеленовато-серый кот Пушок, но это только если у него хорошее настроение. Если у Пушка настроение плохое, его лучше не трогать. У стены стоит тяжёлая длинная лавка, рядом стол. На лавку обе бабушки и Леночка садятся втроём, стульев нет.
В другой комнате из угла внимательно смотрит Николай Чудотворец, икону хитрым образом обнимает длинное полотенце. На стене – ковёр с оленями на водопое. В комнате ещё есть две металлические кровати с шариками, на каждой – замысловатая башенка из подушек в кружевных наволочках, здесь спят бабушка и тётя Тата. Дверь в комнату они никогда не закрывают, иначе Леночке страшно.
Довольно часто девочка отправляется гулять одна. За ней увязывается грустная бородатая собачка Тоська, но потом отстаёт и возвращается, не находя ничего интересного в неторопливой созерцательной прогулке. Чаще всего Леночка идёт к небольшому квадратному пруду, он через дорогу от их дома, и бабушка может видеть внучку из окна. У пруда, наклонившись над ним, растёт огромная берёза. Её длинные плети доросли до самой воды, иногда на них залезают и покачиваются лягушки, одуревшие от буйного счастья размножения. Лёжа на полузатонувших серых мостках, Леночка наблюдает жизнь водоёма. Там целая вселенная, и для юной натуралистки она интереснее, чем весь остальной земной шар. Водомерки бегают по поверхности воды, и она, как плёнка, прогибается под их крохотными ножками. ЧуднО… Остальные существа курсируют вверх и вниз, дергаясь и изгибаясь. У берегов зреют облака лягушачьей икры и пасутся бестолковые чёрные головастики, некоторые уже с лапками. Дай им бог всем однажды стать лягушками. Впрочем, зачем столько лягушек? Взрослые, особенно бабушка Лёля и тётя Тата, ничего об этом не знают, Леночке предстоит разобраться во всём самой.
В тот день вечером они решили пить чай в беседке. Самовар хозяева дома предоставили, но даже они забыли, как его разжигать, поэтому дачники пили чай вприглядку: кипяток наливали из чайника, а на самовар смотрели. К чаю тётя Тата сделала пирожные: намазала булку маслом и посыпала его сахаром. Объеденье!
Откричали петухи, стали пробовать голоса первые соловьи.
Неожиданно все мирные и прекрасные звуки вечера заглушила ругань у пруда. Друг на друга орали две женщины. Леночка сначала вообще ничего не поняла: вроде бы ругались они на русском языке, но слова были незнакомые.
– Боже, как они ругаются! Прям до рвоты. Не стыдно же! – ужаснулась бабушка.
А тётя Тата сказала:
– Пойдёмте лучше в дом. Нечего их слушать. Заткни уши пальчиками, ангелочек мой.
Взрослые спешно увели девочку в комнату, но зычные голоса проникали и в избу. Сидя на лавке и уже без всякого удовольствия допивая чай, Леночка тем не менее пыталась понять причину конфликта.
– Рассохлись грабли… я замочила… а ты… зачем?
– Я тебе русским языком… говорю, я не трогала твои… грабли!
– Да врёшь ты всё, тварь …! Ишь, хозяйка тут нашлась! Общий это пруд! Не твой …!
– Нужны мне твои грабли… и пруд этот… сто лет. Вот таз мой кто спёр весной? Кроме тебя, некому! А граблям твоим в печке место …! И косУ мою без спроса брала в прошлом году!
– Вынула грабли и не признаёшься, сука… змея …! Врунья проклятая и всю жизнь ей была!
– А ты дурой… всю жизнь была. Чокнутой и осталась …. Вот я их тебе сейчас …!
– А-а-а! …! Колька, Колька, убивают!
– Ага, зови. Зови! В запое он, твой… Колька вторую неделю, все знают. Сейчас ещё получишь.
– А у тебя и такого нет. Одна, сука… подыхать будешь. Я к тебе не приду, воды не подам. И всем скажу, чтоб не ходили!
– Ну ты и …!
– …!
Из глаз Леночки покатились крупные горькие слёзы.
– Бабушка, бабушка, – зашептала она, – это я грабли из пруда вынула. Я виновата. Надо пойти им сказать.
– Как ты? Какие грабли?
– Деревянные. Они в воде почему-то были. Я подумала, упали, сгниют. Я их вытащила, рядом положила, на берегу. Позаботилась, думала, хорошо сделала-а-а!
Бабушка и тётя Тата переглянулись.
– Ну уж нет, – сказала бабушка, – не стоит. У них всё далеко зашло. Молчи уже. Никому не говори, поняла? – Леночку затрясло от слёз. – И не слушай их вообще, они ругаются. Дай я тебе лучше вслух почитаю.
Девочку ещё долго успокаивали. Читали вслух, поили слабым раствором валерьянки, кропили святой водой. Наконец решили отходить ко сну. Леночка залезла на печь, её много раз перекрестили, укрыли, поцеловали и оставили одну.
В такие моменты из щелей печи высовывают бесчисленные усики тараканы. Леночка их не боится, с интересом за ними наблюдает. Из соседней комнаты льётся тусклый свет лампы. Если пошевелиться, насекомые, как по команде, спрячутся. Если замереть – тараканья бахрома разрастётся в каждой щели, словно внутри печи кипит и рвётся наружу каша. Сколько же их там? Как они спасаются, когда топится печь? Эту загадку природы ей тоже предстоит разгадать.
Если не вертеться и дышать ровно, не только тараканы осмелеют – не таясь, правдиво заговорят взрослые.
– Кажется, уснула? – с облегченьем спросила тётя Тата.
– Да. Перепугалась наша птичка, – вздохнула бабушка. – Бедная девочка. Хорошо, что она не понимает мата. Какая грязь, какой мрак.
– А может, ей и правда лучше было бы признаться? Она же ничего плохого не сделала с ее, – тут тётя Тата нервно фыркнула, – граблями.
– Нет-нет. Что это меняет? Эти деревенские ненавидят друг друга. Я только не пойму, это с ленинских времён началось или от Царя Гороха.
– Но для неё, для самой Леночки, было бы лучше, – настаивала тётя Тата, – а то растёт какой-то…
– Ну, ну, и какой?
– Правду не говорит. Людей боится.
– И правильно делает, – буркнула бабушка.
– Ага. И ты такая же. Вот нахваливаешь эти Ладушки, что твой сынок снял за копейки, а ведь тут сплошной кошмар. Я даже таракана видела. Люди в двадцатом веке не должны так жить – со скотиной под одной крышей. В пруду стирают. На керосинке готовят.
– Не нравится – уезжай, – ледяным тоном ответила бабушка. – Без тебя справлюсь!
– Не сердись, Лёлька, я не в этом смысле. – Тётя Тата вышла в Леночкину комнату, уставилась в окно, задумалась. – Россия, – прошептала бабушкина подруга и глубоко вздохнула. – Куда ж из неё уедешь?
Подружки помолчали. Бабушка ожесточённо что-то перекладывала с места на место, наверное, затеяла уборку, доказывая, что их жилище вполне пригодно для цивилизованной жизни.
– Проветрить надо, Татка. Постоянно пахнет то ли кислым хлебом, то ли мокрыми валенками, – подала голос бабушка.
– Не поможет, – хихикнула тётя Тата, но тихонько толкнула раму. В комнату полился настоянный на таволге сырой воздух. – Эй, Лёлища, иди сюда.
– Что там?
– Там красота. Как ни крути, а там настоящая красота и благодать.
Бабушка подошла к подруге, и они вместе застыли перед окном, две седые головы рядом. За окном ночь заливала мутным неподвижным стеклом маленький пруд, покосившуюся берёзу, за ними поле, дорогу, лес…
Вера с Васильевского острова
Каждую среду после школы я отправлялась в гости к Вере Михайловне Пыриной. На вопрос, кем она мне приходится, я с лёгкой заминкой отвечала, что она – моя подруга. Потом поясняла, что вообще-то она подруга моей бабушки, но теперь моя подруга, потому что у нас с ней родство душ. Я ходила к ней не потому, что меня было не с кем оставить, и не потому, что ей была нужна моя помощь. Нет, мы просто общались. Дружили, хотя она была старше меня на пятьдесят пять лет. Во всяком случае, я не сомневалась, что мы именно дружим.
Саму себя Вера Михайловна относила к одиночкам, потому что была старой девой и все её близкие и дальние родственники умерли в блокаду. Её тесная дружба с моей бабушкой в конце концов привела к тому, что Пырина стала почти настоящим членом нашего огромного сложноразветвлённого семейства. В нашей семье все называли её по фамилии – Пырина, поэтому и я с колыбели привыкла так её называть.
Вера Михайловна жила на углу 15-й линии и Большого проспекта, с той его стороны, что ближе к Неве. Я издали вглядывалась в окно на первом этаже, и почти всегда между двух плотных выгоревших занавесок уже виднелось её смеющееся лицо и энергично машущая рука. Пырина была дальнозоркой и внимательной, поэтому замечала меня первой. Потом, я это точно знала, она кидалась открывать мне дверь, шаркая тяжёлыми ногами, торопясь, чтобы я не успела нажать на кнопку звонка.
Звонков около двери была целая гроздь. Под нужной мне кнопкой имелась чернильная подпись «Пырина В. М.». Звонок этот издавал хриплый оглушительный рёв на всю квартиру, а у моей подруги были очень строгие коммунальные соседи, сёстры Котомки. Видимо, фамилия их заканчивалась на «о», но все их знали и боялись именно в таком её звучании, с окончанием множественного числа. Некоторые остряки по незнанию предмета осмеливались шутить: «Ну что, Пырина, как там твои Сумки?» Она строго поднимала бровь: «Как всегда, ужасно!», при этом её живое выразительное лицо сообщало всё недосказанное: «Вы же знаете: это одна из главных проблем моей жизни. Могли бы воздержаться от шуток. Шутить можно чем угодно, но не Котомками».
Мы почти не здоровались. Пырина стремглав помогала мне чуть ли не на лестнице снять уличную обувь и, босую, быстро тащила меня в свою комнату по огромному, как тоннель метро, коридору. Разумеется, мы не пытались скрыть от Котомок мои визиты, но делали всё, чтобы парировать их возможные замечания, – не топали, не разговаривали, не пачкали. Лишь раз в жизни я увидела в коридоре младшую из Котомок, Ванду Феликсовну. Котомка потрясла мое детское воображение: под потолок ростом, безобразно расширяющаяся книзу, она переваливалась с одной толстенной ноги на другую, совсем как мультяшный снеговик. А самым страшным было то, что её крохотная головка была не только сзади закрыта белой косынкой, но и спереди защищена белой медицинской маской. Её маленькие змеиные глазки с ненавистью остановились на мне в ответ на моё робкое «Здравствуйте». «Почему она в маске?» – взволнованно спросила я с порога, возвращаясь в спасительный уют пыринской комнаты. «Потому что в квартире чужие люди, а сейчас эпидемия гриппа», – шёпотом пояснила Вера Михайловна, отработанным движением плотно закрывая дверь. По той же причине у порога комнаты Котомок красовались две пары их больших, как корыта, тапок. Это были тапки для перемещения по заражённой квартире, а в своей комнате они надевали особо чистые тапки для комнаты. «У вас в квартире ведь всё стерильно, как в аптеке, сама говоришь?» – недоумевала я. «Ну, ты просто не представляешь, как вылизано у них в комнате», – мрачно ухмылялась Пырина.
Ванда и Агнесса Котомко работали медсёстрами и были помешаны на гигиене. Помимо соседей по коммунальной квартире, они держали в страхе и повиновении всю лестницу, зорко наблюдали в своё окно за порядком во дворе, и, кажется, даже вся 15-я линия, от Большого проспекта до набережной, выделялась особой чистотой на нашем Васильевском острове, который, положа руку на сердце, самый опрятный район в городе.
До войны в их доме жил и следил за порядком старый дворник Измаил. Это был единственный дворник, которого Котомки хвалили. Измаил был от рожденья хромым и кособоким, и, чтобы его не попрекнули этим недостатком и не уволили, исполнял свои обязанности нечеловечески тщательно. А погубила его преданность господам – жильцам. В конце тридцатых годов один за одним пошли аресты. Ему, дворнику, заранее сообщали о предстоящем событии. Измаил ничего не мог с собой поделать: он любил и уважал своих жильцов больше, чем новую власть, поэтому послал сына Равиля, юношу лет шестнадцати, предупредить как бы невзначай: «Сегодня ночью к вам собираются». Вряд ли это кого спасло, а вот отец и сын были обвинены в религиозном экстремизме и пропали. По каким-то тайным знакам того времени жильцы догадались, что обоих расстреляли.
С тех пор никто из дворников не обладал и четвертью измаилового усердия, тем не менее с пяти утра на улицах, в зависимости от сезона, начинали бодро шелестеть мётлы или скрести лопаты.
Чистота и порядок царили на нашем Васильевском, поскольку он, что ни говори, накрепко связан с флотом. Военные моряки маршируют со своими оркестрами по спящим линиям, готовясь к осеннему параду на 7-е Ноября и весеннему на 9-е Мая. Строгие капитаны в немыслимо красивой чёрной, а – если сильно повезёт – то и белой военно-морской форме, с романтическими кортиками на боку, буднично ходят по улицам, словно не замечая, что ими все любуются. Встречные военные, особенно свои, морские, чётко и подобострастно отдают им честь. «Знаешь, – как бы между прочим спрашивала меня Пырина, – почему гражданские мужчины ведут свою даму справа от себя, а военные – слева?» И я догадывалась: «Чтобы правая рука военного была свободна для отдания чести!» – «А на своём крейсере этот капитан прохаживается с накрахмаленным носовым платочком и проводит им прямо по палубе. Чуть пятнышко, так нагоняй матросам: „Такие-сякие, драйте палубу по новой“». Может, Пырина и фантазировала, но я слушала её во все уши. Вот идёт такой капитан по Васильевскому, как по своему огромному треугольному кораблю, обращённому Стрелкой к бурному натиску волн, злобно комкает в кармане белоснежный платок и предвкушает возможность отругать виноватых за беспорядок и грязь. Однако всё в ажуре, дворники стараются, да и граждане в основном не подводят.
С Невы раздавались пароходные гудки. Пырина за свою долгую жизнь неподалёку от набережной научилась отличать их по голосам: вот пьяным тенорком покрикивает рабочий буксирчик, вот важно прогудела огромная приплюснутая баржа, которая и днём может проходить под мостами, а вот этот уверенный густой бас принадлежит военному кораблю. Глубокой ночью настанет таинственный момент, когда наш остров разведёт одновременно все свои четыре моста, как будто корабль поднимет трапы, и мы останемся на пару часов отрезанными от остального мира, и тогда, кто знает, может, как в старые времена, понадобятся власть и решительность одного из строгих капитанов с кортиком, чтобы казнить, миловать, женить и крестить.
Ещё одна причина особой чистоты Васильевского – немцы и всякие другие иностранцы, что издавна селились на нём. На седьмом десятилетии советской власти об этом не принято было говорить, но Пырина рассказывала мне, что остров был совсем нерусской частью в нашем тоже не слишком русском городе. Пырина помнила некоторые шуточки на немецком языке, не всегда, как я теперь понимаю, приличные. Она не могла удержать их за зубами, но особо не заостряла на них моё внимание. Жаль – теперь, наверное, их никто не помнит. «Любишь немцев?» – укоризненно спрашивала я, уже твёрдо знавшая про войну и блокаду. «Ну, люблю не люблю, а они соседи. Соседи – дело тонкое. Близкие соседи важнее дальних родственников. Меж нами были не только войны».
До революции иностранцы мыли с мылом деревянные мостовые перед своими магазинами. В пыринском доме немцы держали кондитерскую, свежие булочки продавались там по четыре копейки, а на следующий день уже по две, а ещё через день остатки бесплатно раздавались бедным. Сын этих лавочников дожил до тридцать седьмого года, говорил со смешным акцентом, был очень весёлым и добрым, несмотря на то, что всем заявлял, не таясь: «Ви, русские, короши, да только слишком много пьёте и шивёте крясно». Видимо, за такие слова вкупе со странной немецкой фамилией Шилле его и забрали в тридцать седьмом. Вернее, в один не для всех прекрасный день он исчез, а всем, кто интересовался, куда и по какой причине, неофициально давали понять, что он шпион и интересоваться его дальнейшей судьбой небезопасно.
Наши Ванда и Агнесса тоже, между прочим, не совсем русские, их предки – выходцы из Литвы. По религии Котомки были католичками, они не слишком это афишировали, особенно у себя на работе, но раз в год, на католическое Рождество, они надевали нелепые шляпы и отправлялись в единственный в городе костёл, что находится где-то у далёкой площади Восстания. Вероятно, только в этот день сестрицы и покидали Васильевский.
«А, кстати, что они делали во время блокады?» – спрашивала я, готовясь услышать какую-нибудь гадость: если уж не шпионили в пользу врага, то, по крайней мере, отсиживались в эвакуации или, что ещё хуже, воровали хлеб у себя в больнице. Но нет, Пырина подчёркивала, что вели они себя безупречно, самоотверженно выхаживали раненых, работали по несколько суток без сна, а когда умер их общий сосед по коммунальной квартире, честно поделились с Пыриными его продуктовыми карточками. По тем временам это был почти подвиг. «В жизни люди не бывают только хорошими или плохими», – подытоживала Пырина, слегка пожимая мне руку, а это было сигналом того, что она говорит что-то важное. Котомки вообще стали такими злыми после войны, когда с фронта не вернулись их мужья, а до войны они были хорошенькими хохотушками, приглашали Пырину в гости, играли на гитаре и даже, представьте себе, курили.
Вообще мы вроде специально о блокаде не говорили, но почти каждый раз она как-то всплывала. Я о ней знала с самого детства: блокада, как огромное жуткое привидение, притаилась в глубине ленинградских шкафов, до отказа набитых консервами и крупой. Блокада грозила тощим пальцем оттуда, из далёкой войны, приказывала подчищать хлебом тарелки до блеска, не оставляя и крошки пищи на выброс. Выбрасывать еду – страшное кощунство: если что испортилось, то всё равно это надо съесть, хоть в наказание себе, чтобы впредь не допускать порчи.
Во время блокады, как, впрочем, и всю свою жизнь, Пырина работала в Бюро погоды. Это тоже на Васильевском, в сторону Гавани, от её дома можно дойти пешком. Бюро погоды считалось военной частью, и у Пыриной был военный паёк, как объясняла мне моя бабушка, кажется, до сих пор с неизменной толикой зависти. Пырина рассказывала, что они звонили в другие города, чтобы узнать, какие там метеоусловия – ну, это был такой технологический процесс, – и случалось так, что в общей неразберихе стремительного отступления наших войск звонившим насмешливо отвечали по-немецки: «Занят, мол, уже этот городишко, скоро до вас доберёмся, готовьтесь». Они в ужасе бросали трубку: шутка ли – общение с врагом прямо по телефону! За такое могли расстрелять на месте. Потом их стали возить рыть окопы, они рыли, а немцы с самолётов разбрасывали листовки «Ленинградские дамочки, не копайте ямочки, всё равно наши таночки переедут ваши ямочки».
А затем началась блокада, остановилось время, все отупели. Если бы не отупели, то не выжили бы. Если хотя бы раз вспомнить в такой обстановке, кто такой, к примеру, Моцарт, то, наверное, можно было сойти с ума, потому что как может Моцарт или балет «Щелкунчик» существовать на одной планете рядом с замёрзшими трупами, с тем, что на твоих глазах в человека попадает осколок снаряда? Но, слава богу, в голове не осталось места ни искусству, ни литературе, ни другим чувствам и мыслям, кроме чувства голода и мыслей о еде. Ну, ещё о том, что, еле переставляя ноги-бочки, надо доковылять до Бюро погоды, а потом обратно. «Вне всякого сомнения, мы все стали отчасти животными, и в этом было милосердие Божие, – признавалась Пырина. – Но не подумай, только не подумай, что нам было всё равно, сдадут город или нет. Вот сейчас повылазили откуда-то всякие пустомели, которые в войну под стол пешком ходили, так они утверждают, что народ, мол, в Ленинграде никто не спрашивал, сдавать город или нет, а если бы спросили, то неизвестно ещё, что бы ответили жители. Не слушай их! Тогда мы таких растерзали бы без всякого Сталина, без всякой идеологии, просто от чистого голодного сердца растерзали бы. Ведь сдача означала бы, что всё напрасно. Миллион жертв напрасно. Дети умерли напрасно. Родители – напрасно. Нет-нет, каждый, без сомнения, лучше бы расстался с жизнью, чем сдал город».
Военный паёк не спас Веру Михайловну от крайней степени дистрофии, от которой обычно не излечиваются. «Я распухла, как слон, – признавалась она. – Вообще от голода в основном пухли, не худели. Все мы выглядели очень страшно». После выздоровления она вернулась к своей природной худобе, но, как она говорила, осталось много лишней кожи. Глубоченные носогубные складки, треугольные мешки под глазами, на высоком лбу целая решётка – продольные и поперечные морщины. Когда она доковыляла к себе из больницы домой, то узнала, что от голода умерли её престарелые отец и мать, похоронить их было некому, поэтому они покоятся где-то в общей могиле, скорее всего – на Пискарёвском кладбище. Хотя, если смотреть правде в глаза, кто мог их туда довезти и как, ведь это очень далеко? Через пару лет после Победы стало ясно, что и брат Ваня не вернулся с войны, просто пропал неизвестно где, даже приблизительно неизвестно.
Готовила Пырина очень вкусно, да вот деньги у неё не водились. Она, хотя и проработала более сорока лет в своём Бюро погоды, но на какой-то невысокой должности, поэтому пенсия у неё была мизерная. Порой бывало так, что она смущённо заявляла: «На второе будем есть то, что останется от первого». Сначала полагалось съесть ложкой из супа всю жидкость, а потом чинно приступить с вилкой к оставшейся гуще. Зато и ложки, и вилки были серебряные, украшенные замысловатым переплетением букв «А», «М» и «П»: это инициалы её родителей Анны и Михаила Пыриных. Обедали мы, конечно же, у неё в комнате, на письменном столе, который ради такого случая накрывался белой скатертью с белой выпуклой вышивкой. Обед, даже в чёрные дни экономии, всегда завершался десертом: какао, молочным киселём, а в тучные дни, сразу после получения пенсии, гоголем-моголем (взбитым с сахаром сырым яйцом). Перед обедом Вера Михайловна торопливо крестилась будничным уверенным жестом. От меня она того же не требовала, говорила, что это необязательно, гораздо важнее соблюдать заповеди.
После обеда Пырина укладывалась отдохнуть, а я приступала к просмотру её книжек о балете. Книжек было полки три. Вера Михайловна была балетоманкой и в лучшие, довоенные времена чуть ли не каждый день ходила в театр. К любой заинтересовавшей меня фотографии из своих книжек она могла дать развёрнутый комментарий: что представлял собой этот артист или артистка, где и когда родились, сколько фуэте способны были сделать, были или не были замужем или женаты, на ком, за кем и почему. Либретто каждого балета, странного и совсем уже забытого, она могла подробно пересказать, а музыку напеть некрасивым, но чистым голосом, какой бывает у людей с абсолютным слухом. Если разговор не слишком увлекал Пырину, она засыпала на час с лишним.
– Радио выключить? – интересовалась я, когда моя подруга начинала похрапывать.
– Нет, пусть бормочут, ведь они мне вместо семьи, некрасиво их выключать только потому, что ты пришла.
Спящей она казалась особенно милой. Её лицо, когда она не гримасничала, изображая всех, о ком рассказывает, несмотря на морщины, выглядело нежным и очень женственным. Почему же она осталась одна? Сама Пырина уверенно утверждала: «Из-за балета, была замужем за театром». Ухажёры воображали, что в театре самое время прижиматься и целоваться, а она за такое способна была влепить пощёчину: «Как можно, когда на сцене сама Уланова или Вечеслова?»
Скучая во время сна моей подруги, я в который раз рассматривала её комнату. Не стене фотография родителей: отец в дореволюционной военной форме, похож на Николая II, задумчив. Рядом мать в чёрном берете с пером, очень грустная – наверное, почувствовала, что весь мир повернул в тот день не туда. Подобные фотографии хранились в тысячах семей: это 1914 год, отец уходит на войну. Мать Пыриной была фантастически красива, теперь не бывает таких лиц, но Вера Михайловна немного походила на неё.
Среди поклонников молодой Веры был один смелый и настойчивый, называл её дурочкой, говорил, что приручит. Он был откуда-то с юга, не местный, по натуре мужлан, нагловатый, самоуверенный, но обаятельный и с прекрасной улыбкой. Звали его очень странно: Костя Арнольди. Может, он был грек или даже итальянец, может, присвоил себе фамилию – в то время было много людей со странными выдуманными фамилиями и именами. Пырина боялась и избегала его, а он принимал её отпор за кокетство – привык к лёгким победам. Потом она говорила, что было у неё предчувствие, которое пугало её, будто Костя – действительно её будущий муж. Но судьба распорядилась по-иному. В тридцать девятом легкомысленный и бесшабашный Костя понарассказывал политических анекдотов кому не надо, и его забрали. У тех, кого забирали, всегда требовали, чтобы они оговорили кого-то ещё. Костя, видимо, не стал этого делать, он был для этого слишком горд и смел, вот и сгинул. Его не стало.
Пырина легко и быстро просыпалась, иногда, правда, я ей сильно в этом помогала, потому что мне становилось одиноко наедине со старыми фотографии и балетными книгами, и наступал самый важный момент нашего свидания – мы шли гулять. Например, ранней весной полагалось ходить в конец Большого проспекта, смотреть на грачей. Грачи прилетали и обживали свои чёрные лохматые гнёзда в сквере у детской больницы. Путь туда пролегал сквозь волны незабвенного сладкого запаха с хлебозавода. Запах особенно усиливался в районе 18-й линии. Вместе с нами туда через синие весенние сумерки и сладкий запах двигались и другие люди, чаще с детьми, а иногда и так, для души – все они тоже шли смотреть грачей. Эти люди радовали Пырину больше, чем сами грачи: пока василеостровцы ходят смотреть на грачей, всё в порядке, всё идёт как надо. А в мае мы, как и многие другие, отправлялись наблюдать ладожский лёд – миниатюрные игольчатые айсберги, которые внезапно, когда никакого льда на Неве уже нет и в помине, проплывают мимо нашего города к морю. Вскоре после этого, через каких-то две недели, мы спешили на Университетскую набережную: там обильно цвели вишни в саду у Меншиковского дворца. Осенью было необходимо навестить огромный оранжевый клён в проходном дворе одного из домов, где-то между Средним и Малым проспектами. Клён был сказочно прекрасен, словно гигантская жар-птица вдруг приземлилась в обыкновенном сером проходном дворе. В нём было довольно многолюдно: вероятно, не мы одни приходили туда именно ради этого особенного клёна.
Наш самый обычный и частый путь пролегал по 15-й линии к Неве. Там у нас было важное дело – увидеть, какого цвет сегодня вода. Вода может быть перламутровым зеркалом, а может мятой синей фольгой. В дни наводнения она чёрная с белыми барашками, а иногда, при ясной погоде, почему-то стальная, строгая, словно река вспоминает что-то грустное. Небо тоже всегда разное. Если на дворе была не тёмная зима, то мы как раз поспевали к закату и смотрели, что на сей раз приготовил нам небесный художник. Обычно мы доходили до середины моста Лейтенанта Шмидта и оттуда наблюдали два фантастических полукруга: верхний – неба, нижний – воды. На них были наклеены чёрные лаковые силуэты кораблей и портовых кранов, справа – купол Киевского подворья, дальше, я знаю, Горный институт с его загадочными волнующими статуями, потом – таинственное пыринское Бюро погоды, дальше – Гавань, залив, море, весь остальной мир. Мир, о котором мы столько читали, но который никогда не увидим, так уж сложилось. Если на западе вставали причудливые тучи, то Пырина шутила: «Смотри, смотри, отсюда виден железный занавес!»