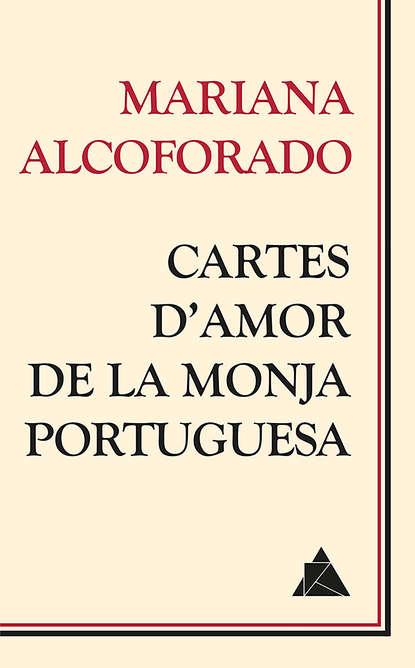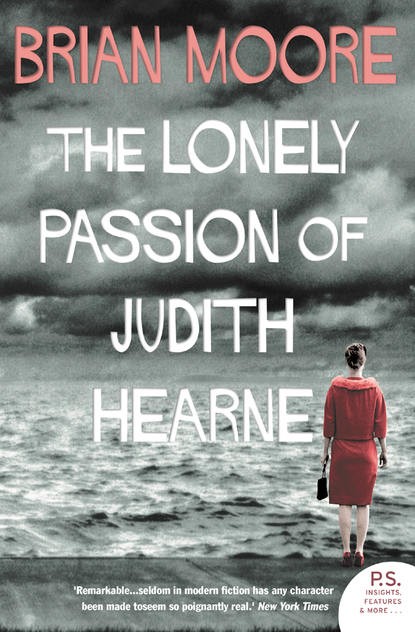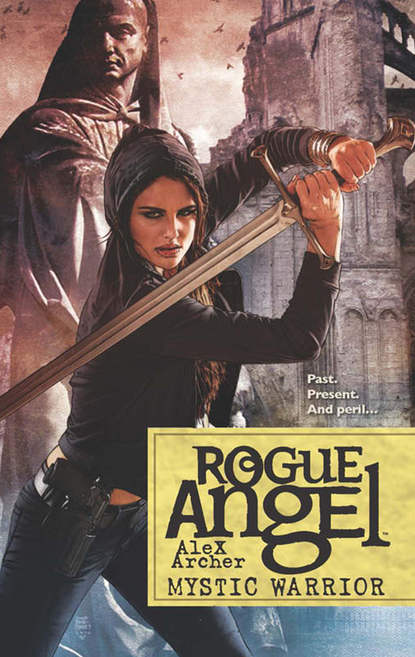- -
- 100%
- +

В мире, где уже давно царит голод, где маленькая речка, лениво вилась меж полей, стояла деревушка Ольховый Луг в окраинах Ваэрина. Жизнь здесь текла медленно и мудро, большая часть жителей занималась полями в попытках прокормить себя и родных. И был в этой деревне 12-ти летний парень по имени Каэлин.
Его мир был простым и ясным, и его сердцевиной была старшая сестра, Элейна. Она была его противоположностью и его дополнением – где он был тих и мечтателен, она была практична и умна; его руки ладили с косой и землей, ее ум – с книгами и травами, что она собирала и сушила, знавшая больше любого деревенского лекаря. Элейна, с добрыми, всепонимающими глазами и спокойной улыбкой, была его самым верным другом и советчиком.
Именно она часто приходила к нему на луг, делясь куском хлеба и рюмками молока. Она садилась на скрипучую, сработанную их отцом скамью под старым дубом и наблюдала, как он работает.
Каэлин любил косить. Не грубый, грохочущий инструмент горожан, а именно длинную, острую, поющую косу. Он чувствовал ритм – плавный взмах, шелестящий звук и аромат скошенных стеблей. Это был его танец, его медитация.
– В твоих движениях есть настоящая гармония, Кей, – говорила Элейна, откладывая в сторону книгу. – Ты не просто рубишь. Ты… договариваешься с полем. Просишь у него урожай, а не требуешь, жаль только, что матушка природа так редко тебя слышит
После работы они часто шли вместе к лесной опушке. Элейна показывала ему новые целебные травы, а он, в свою очередь, делился своим чутьем – какое растение хочет пить, какое тянется к солнцу, а какое болеет.
– Этот стебель… он внутри пустой, – мог сказать он, легонько проводя пальцем по стеблю. – Он выглядит живым, но сила из него ушла.
– Ты прав, – соглашалась Элейна, внимательно осмотрев листья. – Гниль. Его нужно удалить, иначе заразит остальные. Ты чувствуешь это кожей. Это редкий дар, Кей.
Она-то и открыла ему, что его умение – не просто ремесло. Он не просто дарил жизнь цветам своим прикосновением и забирал ее у травы лезвием косы – он чувствовал самый цикл бытия, не нарушая равновесия. Она говорила, что в нем странным образом переплелись две фундаментальные силы: неистовая, буйная сила жизни и тихая, неумолимая сила смерти, и что он умеет находить между ними баланс.
– Ты не жнец, Кей, – говорила она, глядя, как он латает плетень у дома. – Ты садовник. Настоящий. Ты понимаешь, что чтобы одно жило, другое иногда должно уступить место. Это мудрость, которую немногие постигают.
Он не знал, что за ним наблюдают. Что ее слова, ее вера в его дар скоро станут его единственным якорем. Что его простое счастье, эти мирные беседы с умной и доброй сестрой на закате, станут тем самым сокровищем, которое он будет бесконечно перебирать в памяти, как четки, пытаясь не сломаться в кромешном аду чужой воли. Элейна, сама того не ведая, дала ему не только любовь, но и понимание его собственной сути, которое однажды спасет его рассудок.
Он не знал, что за ним наблюдают. Пока король был на войне, королевством руководил 1 принц, Манифеста, и по его воле в Ольховском Лугу, что поддерживало королевство, искали нечто особенное. Их архимаг, человек с глазами цвета свинца, проезжая через долину, почувствовал необычайное вибрационное эхо. Он нашел его источник в юном садовнике. В Каэлине, не ведавшем о своей силе, странным и дивным образом переплелись две фундаментальные силы мироздания: неистовая, буйная сила жизни и тихая, неумолимая сила смерти. Он дарил цветам жизнь своим прикосновением и забирал ее у травы лезвием косы, не нарушая равновесия. Он был идеальным сосудом, живым противоречием.
Однажды в деревню прибыл золоченый экипаж в сопровождении стражников в черных латах. Важные люди предложили сделку старейшинам и родителям Каэлина. Они забирают юношу, чтобы обучить его и сделать защитником королевства. А взамен Ольховый Луг получит несметные богатства: дороги, мосты, маленькую телегу хлеба, стада и пожизненную свободу от налогов.
Сердце матери обледенело. Отец сжал кулаки. Деревня, несмотря на манящий блеск золота, воспротивилась. «Он наш, он дитя этой земли, он не оружие!» – говорили они. Но Каэлин все слышал из-за двери. Он видел прохудившуюся крышу своего дома, помнил, как голодали зимой, как его старшая сестренка постоянно худела, отдавая свою еду ему.
Той же ночью он сказал родителям: «Я поеду».
В его глазах стояли слезы, но голос был тверд. «Я не хочу, чтобы вы голодали. Я не хочу, чтобы деревня прозябала в нищете. Если моя сила может вам помочь, я должен это сделать. Это будет моей жатвой для вас».
Его уговоры были тихими и решительными. И хотя материнское сердце разрывалось, они, видя его решимость, сокрушенно согласились.
Особняк во власти 1 принца был не домом, а крепостью на окраине из черного камня, где даже воздух казался тяжелым и безрадостным. Ласковый шепот ветра с лугов сменился грубыми командами. Вместо запаха цветов и свежескошенной травы – вонь пота, крови и металла.
Его «обучение» началось сразу. Надзиратели, бездушные машины в человеческом облике, видели в нем не человека, а сырье. Его силу нужно было выковать, закалить, подчинить.
Его изнуряли до изнеможения физическими тренировками с неподъемными грузами. Когда он падал, его поднимали ударами плетей. Синяки и ссадины стали его новой кожей, кровь, выступившая на губах от усталости, – привычным вкусом. Он тосковал по свободе движений косца, а здесь каждое действие было рабским, подконтрольным, выверенным для убийства.
Но физические муки были лишь началом. Наступил этап «закалки». Его начали пичкать ядами. Сначала слабыми, вызывающими лишь жуткую тошноту и судороги. Он лежал на холодном каменном полу конвульсивно вздрагивая, его тело, привыкшее к чистоте луговых трав, отчаянно боролось с отравой. Но сила жизни внутри него, та самая, что заставляла цвести сирень, сражалась за своего носителя. Он выживал.
Дозу увеличивали. Пробовали новые, более изощренные яды. Каждый раз это была агония. Казалось, сама смерть, вторая часть его сущности, уже протягивала к нему руки, но сила жизни, разбуженная и разъяренная борьбой, отталкивала ее. Он вырабатывал иммунитет ценой невыразимых страданий. Его тело становилось крепостью, способной противостоять любым токсинам.
Однажды, после особенно жестокой «тренировки» с ядом, он лежал в своей камере, ощущая, как по жилам будто течет раскаленное стекло. Из окна высоко в стене виднелся клочок луны. Он закрыл глаза и представил себя дома. Он чувствовал под пальцами шероховатое дерево косы, слышал шелест травы, вдыхал ее пьянящий аромат. Он видел лица родителей, улыбку сестры.
По его избитому, испачканному кровью и ядом лицу медленно покатилась слеза. Она упала на каменный пол, и в том месте, куда она упала, сквозь щель между плитами, пробился хрупкий, белый росток. Росток ромашки.
Силы жизни и смерти внутри него, сплетенные страданием в единое целое, начинали проявляться вопреки воле его мучителей. Он еще не стал оружием, каким они хотели его видеть. Он стал чем-то большим. Но какой ценой? И помнит ли еще тот мальчик с косой, зачем он все это терпит? Пока что помнил. И этот крошечный цветок в темнице был его самой важной победой. Он доказал – их можно пытаться сломать, но нельзя выжечь в нем жизнь до конца.
И вот настал этап, который должен был превратить выносливое тело в совершенный инструмент убийства. К Каэлину приставили новых наставников – мастера клинка и лучника, лучших, что смогли найти.
Мастер клинка, Клайн, суровый мужчина со шрамом через глаз, вложил в его руку отточенную сталь тренировочного меча. Но добрые руки Каэлина, знавшие лишь вес деревянной косы и нежный стебель цветка, отказывались понимать эту грубую форму. Он не мог сжать рукоятку с нужной силой, его запястье не гнулось для изящных фехтовальных выпадов, а мощные рубящие удары выглядели неуклюже и жалостливо. Меч был для него чужд, бездушен. Он чувствовал в нем лишь холодную смерть, не ощущая той цикличности, что была в его косе: смерть, дающая новую жизнь земле.
«Деревенщина! Ты держишь его, как вилы!» – рычал наставник, и удар древком алебарды по ногам сбивал Каэлина с ног. Синяки множились, но навык не приходил. Его душа отторгала сам принцип меча.
Стрельба из лука оказалась не лучше. Тетива резала ему пальцы, привыкшие к мягкой траве и гладкому древку косы. Он не мог ровно держать лук, его дрожала, стоило он пытался прицелиться в соломенное чучело. Он видел в мишени не врага, а форму, и его рука отказывалась отпускать тетиву, чтобы нанести вред. Стрелы ложились беспорядочно, а часто и просто падали к его ногам. Наставник-лучник, Вюргель, человек молчаливый и язвительный, лишь презрительно хмыкал: «Твои руки созданы для граблей, а не для оружия. Жалкое зрелище».
Его снова и снова избивали за неудачи. Лишали еды на месяцы, запирали в холодной яме, чтобы «стимулировать» покорность. Приходилось есть корни и всеми силами пытаться не упустить каждую каплю грязной воды, которую ему небрежно лили сверху. Но чем сильнее они пытались выковать из него солдата, тем очевиднее становилась простая истина: Каэлин был несовместим с оружием убийства. Его душа, его сила были связаны с иным предназначением.
Однажды, после особенно унизительного дня, когда он в очередной раз уронил меч и промахнулся из лука, главный надзиратель Федрик в ярости приказал: «Принесите то, с чем этот болван управлялся в своей деревне!»
Слуги притащили его старую, знакомую до боли косу. Лезвие было затуплено, древко потерто от его рук. Увидев ее, Каэлин невольно выпрямился, а в глазах, потухших от боли, мелькнула искра.
Его вывели на плац и бросили косу к ногам. «Ну, покажи нам свое «искусство», деревенщина!» – усмехнулся Клайн, мастер меча.
Каэлин медленно поднял ее. Пальцы сами нашли привычные зазубрины на рукояти. Он взмахнул ею, и в воздухе послышался тот самый, знакомый, чистый звук – свих рассекаемого ветра. Движения были не для боя, они были для работы – широкие, плавные, бесконечно эффективные. Он вошел в свой ритм, забыв на мгновение о страже, о боли, о ненавистном особняке. Он просто косил невидимую траву, и в этом движении была и печаль, и тоска по дому, и странная, горькая грация.
Все замолкли. Даже самые жестокие надзиратели застыли, наблюдая за этим странным, почти ритуальным танцем. Стало ясно, что этот парень никогда не будет фехтовать на шпагах или поражать цели из лука. Его оружием была и оставалась коса. Но в его руках даже она выглядела не как инструмент войны, а как часть природы, продолжение его собственного тела, способное и давать жизнь, и забирать ее – но только в соответствии с великим круговоротом, который он чувствовал кожей.
С этого дня тренировки с чуждым оружием прекратились. Важные люди махнули на это рукой. Они сделали ставку на другое – на его выносливость, на иммунитет к ядам и на ту единственную вещь, что у него получалась идеально. Они приказали выковать ему новую косу. Не деревенскую, а боевую, из темной стали, с лезвием, отточенным до бритвенной остроты, на прочном древке, окованном металлом. Это уже было не орудие труда, а орудие смерти. Им предстояло научить Каэлина применять его не на стеблях травы, а на людях. Это была следующая, самая страшная ступень его превращения.
Новая коса была кошмаром наяву. Она была тяжелее, холоднее, идеально сбалансированной для смертоносных взмахов, но в руках Каэлина она становилась непослушным, мертвым грузом. Ему приказали тренироваться на манекенах из плотной кожи, набитых соломой.
Но его руки, помнившие вес и баланс старого друга, не понимали эту грубую поделку. Он пытался повторить свои плавные, широкие движения, но тяжелый окованный древко выворачивал суставы, а лезвие, созданное для рассечения плоти, вонзалось в манекен с тупым, уродливым звуком, а не с чистым шелестом срезаемых стеблей. Он не косил – он рубил, колол, цеплялся, и каждый раз Федрик бил его плетью по спине.
«Коси, тварь! Что ты делаешь? Это же не дрова!» – кричал он.
Каэлин стискивал зубы. Слезы злости и бессилия застилали глаза. Он пытался. Изо всех сил. Но это было неправильно. Его душа, его сама суть, восставала против такого применения того, что он любил. Он терпел поражение за поражением, и его тело покрывалось свежими ранами за каждую неудачу.
Однажды, после очередного унизительного провала, когда он едва не выронил ненавистное оружие, надзиратель в ярости ударил его древком по лицу. Кровь наполнила Каэлину рот, мир поплыл перед глазами. Боль, отчаяние, тоска по дому – все смешалось в единый клубок ярости и скорби. В нем что-то надломилось.
Его подняли на ноги и снова поставили перед манекеном. «Коси, говорю!» – прозвучал очередной удар плети.
Каэлин закрыл глаза. Он не видел больше ни злого лица надзирателя, ни уродливого манекена. Он представил бескрайний луг у своего дома. Жаркое солнце. Пение жаворонка в вышине. Шелест высокой, сочной травы, просящейся под лезвие. Он сделал глубокий вдох, вобрав в себя этот призрачный, но такой реальный для него запах.
И он взмахнул. Не так, как его учили эти люди. А так, как чувствовал. Плавно, мощно, с той самой, отточенной годами грацией.
Раздался не грубый звук разрываемой кожи, а тихий, чистый свист рассекаемого воздуха. И затем – абсолютная тишина.
Каэлин открыл глаза. Манекен был аккуратно перерезан пополам в районе живота. Но это было не самое странное. Из чистого, ровного среза на соломе, будто вырастая из самого материала манекена, пробились стебли. Тонкие, изящные, с резными листьями. И на их верхушках распустились цветы. Нежные, призрачные, мерцающие фиолетовым светом харизантемы. Они светились изнутри мягким, зловещим сиянием, их лепестки колыхались в неподвижном воздухе особняка.
Надзиратель замер с поднятой плетью, его рот был открыт от изумления. Стражи у входа невольно сделали шаг назад, суеверно крестясь.
Цветы прожили всего несколько мгновений, после чего рассыпались в мелкую, фиолетовую пыль и исчезли, будто их и не было. Но срез на манекене оставался идеально гладким и чистым, а парень упал без сознания, лишённый сил, провожая взглядом созданные им “цветки забвения”.
В тот день принц получил долгожданный отчет. Их эксперимент наконец-то дал первый, ошеломляющий результат. Силы жизни и смерти внутри Каэлина, спрессованные страданием и выведенные наружу отчаянием, нашли свой выход. Его удар больше не просто убивал. Он приносил с собой странную, прекрасную и пугающую жизнь – мгновенное цветение и мгновенное увядание, воплощенное в хрупких цветах забвения.
Они не просто создали оружие. Они создали нечто большее. Искусство смерти, оставляющее после себя призрачный сад. И Каэлин, падающий на пол, глядя на исчезающие лепестки, впервые почувствовал не боль и не страх, а леденящую пустоту. Он наконец-то «преуспел». И это было самым страшным, что с ним происходило.
Весть о необычайном ударе Каэлина долетела до самых высоких чертогов. 1 принц Ваэрина Манифеста – человек пресыщенный и жаждавший новых, изощренных зрелищ, пришел в восторг. В его воображении уже рисовались казни, превращающиеся в мрачные представления, где смерть будет не просто концом, а искусством. Он прислал личный указ: уделять «Цветку Забвения» особое внимание. Ускорить тренировки, усилить «стимуляцию». Теперь на Каэлина смотрели не просто как на перспективное оружие, а как на будущую королевскую диковинку.
Это внимание обрушилось на юношу новым витком ада. Тренировки стали изощреннее, яды – сильнее, а удары плетью – частыми и безжалостными, однако стали выделять на пол батона хлеба больше. Каэлин уже почти не реагировал на физическую боль. Его разум был занят другим, куда более страшным мучением.
Он сидел, сгорбившись, в углу своей каменной каморки после изнурительного дня, вцепившись пальцами в волосы. Перед его глазами стояли те самые, мерцающие фиолетовые харизантемы, вырастающие из разрезанной плоти. Он не чувствовал себя сильным. Он чувствовал себя монстром. Посланником смерти, который не просто забирает жизнь, но и глумится над ней, заставляя ее цвести в момент гибели. Его дар, его любовь к жизни и росткам, была извращена и обращена в свою противоположность. Он стал пародией на самого себя.
«Я не должен был соглашаться… – шептал он в темноту, и его голос звучал хрипо. – Я не для этого… это неправильно…»
Он игнорировал жгучую боль от свежих рубцов на спине. Физическая боль была ничто по сравнению с болью душевной. Он уходил в себя, в воспоминания о солнечных лугах, пытаясь спрятаться от ужаса настоящего. Так прошло полтора года.
Главный надзиратель, Федрик, человек грубый и циничный, наблюдал за этим. Он видел, как взгляд Каэлина становится все более отсутствующим, как он перестает даже вздрагивать от ударов.
«С ним что-то не так, —доложил он своему начальнику. – Он ломается. Уходит в себя. Такие долго не живут, а принц хочет результата. Ему нужно… общение. Чтобы вспомнил, что он такое. Чтобы глянул на таких же, как он, ”узников”, что его место – среди такого же мусора, а не в своих фантазиях».
Так Каэлина перевели из одиночной камеры в общее общежитие. Это было большое, мрачное помещение с нарами в два яруса, пропахшее потом, кровью и отчаянием. Здесь жили и обычные солдаты, провинившиеся или находящиеся на переподготовке, и те, кого, как Каэлин, привезли сюда насильно – возможное оружие и сила королевства, обладатели каких-то странных способностей или просто физически одаренные, кого решили превратить в инструмент. Как только парня завели в здание он ужаснулся от того, что двое солдатов насмерть бьются за хлеб.
-Ты в числе любимчиков, с голоду не помрёшь. -ответил сопровождающий.
Их было пятеро. Две девушки и трое парней. Одна девушка, ровесница, змееподобная, но с человеческими ногами Айла, с кожей, отливающей, как чешуя, и слишком блестящими, змеиными глазами. Другая, эльфийка Элси, сильно младше, тихая и пугливая, способная, шепотом, останавливать кровь, но не способная поднять взгляд на надзирателя. Среди парней – драконорождённый Горн на год старше, чьи руки от прикосновения могли накалять металл докрасна; долговязый и молчаливый, худощавый человек ровесник, Рен, умевший растворяться в тенях на несколько секунд, язвительный и колкий, обладатель нечеловеческой реакции; и самый старший из них, крепкий человек Ларс, с спокойным, усталым лицом и странной способностью никогда не терять ориентацию, будто в его голове был встроен компас.
Каэлина бесцеремонно втолкнули в барак и указали на свободную кочку в углу. Двери с грохотом закрылись. На него уставились десяток глаз – любопытных, враждебных, равнодушных, испуганных. Он прошел, не поднимая головы, и сел на указанное место, снова уткнувшись взглядом в каменный пол, пытаясь абстрагироваться от нового кошмара.
Мир для него сузился до трещины между плитами. Он не видел, как переглянулись другие «узники», чувствуя в нем родственную, изломанную душу. Он не видел, как Ларс внимательно посмотрел на него, а потом тихо вздохнул. Он не знал, что его одиночество закончилось. Теперь его боль делили на пятерых. И это, хоть он того не понимал, было его первым шансом не сломаться окончательно.
Первые дни в бараке Каэлин провел, словно в тумане. Он сидел на своей кочке, вжавшись в угол, и не видел ничего, кроме собственных рук. Он смотрел на ладони, покрытые старыми мозолями от косы и свежими ссадинами от тренировок, и ему казалось, что они пропитаны смертью. Он боялся до них дотронуться, боялся, что одно неловкое движение – и из стены прорастут те самые зловещие фиолетовые цветы.
– Смотрите-ка, новый, – усмехнулся Рен, ловко перебирая в пальцах заточку. – И совсем уже рехнувшийся. На своего предшественника похож. Того тоже в итоге унесли, бубнившего что-то о глазах в стенах.
– Закрой рот, Рен, – тихо, но твердо сказал Ларс, не отрываясь от чистки своих сапог.
Айла, свернувшаяся калачиком на верхних нарах, наблюдала за Каэлином своими необычными, вертикальными зрачками. Элси украдкой бросала на него испуганные взгляды, прижимая к груди потертое одеяло.
Однажды вечером, после особенно тяжелого дня, когда надзиратели в ярости из-за его «неконтактности» устроили ему «тренировку» на выносливость, Каэлин вернулся в барак едва живым. Он рухнул на свои доски, забился в угол и, обхватив голову руками, начал тихо, безумно бормотать:
– Нельзя… нельзя касаться… всё умрет… цветы… везде цветы… из крови… я не для этого… мама, прости…
Он дрожал мелкой дрожью, его глаза были широко раскрыты и полны ужаса, устремленного в никуда.
Обычные солдаты перешептывались, показывая на него пальцами. «Нового тронуло», – слышалось в углах. Но «узники» молчали. Они смотрели на него, и в их глазах не было насмешки или страха. Было понимание. Горькое, выстраданное понимание.
Ларс тяжело вздохнул и кивнул Айле. Та бесшумно спрыгнула с нар и подошла к Каэлину. Она не говорила ни слова. Она просто села рядом с ним и осторожно, почти по-матерински, обняла его за плечи.
Каэлин вздрогнул, как от удара, и попытался отшатнуться, но у него не было сил.
– Не трогай! – его голос сорвался на шепот. – Я… я заражен. Я несу это с собой…
– Тихо, – прошипела Айла, и ее голос звучал как шелест сухих листьев. – Мы все здесь немножко заражены.
В это время Горн, молчаливый великан, открыл тумбочку и достал оттуда половинку печеньки, отломил кусочек и грубовато, почти тыча ей, протянул Каэлину.
—Ешь, – буркнул он. – Не помрешь. Пока… Прояви уважение, чтобы спечь эту печеньку я 3 года в турнирах колечился.
Каэлин медленно, неверяще, поднял на него глаза. Он увидел не насмешку, а суровую, но не злую усталость. Он увидел шрамы на лице Горна, такие же, как у него. Он увидел Айлу, которая сидела рядом, и ее рука на его плече была прохладной и настоящей. Он увидел, как Элси смотрит на него с сочувствием, а Рен молча кивает из своего угла в тенях.
Ледяная скорлупа внутри него дала трещину. Ему протягивают еду, да ни абы какую, а печенье, что сейчас сродни сокровищу, чье-то прикосновение, молчаливое понимание – это было то, чего ему не хватало все эти долгие месяцы. Он не был один со своим безумием.
Его дрожь понемногу стала утихать. Слезы, которых он себе не позволял, наконец хлынули из его глаз – тихие, очищающие. Он не рыдал, он просто плакал, опустив голову на колени.
– Они… они сделали из моей любви… оружие, – выдохнул он, и это была первая связная фраза, обращенная к кому-то, кроме его палачей.
– Добро пожаловать в клуб, – горько усмехнулся Рен, но на этот раз в его колкости не было злобы.
Ларс подошел ближе. А Айла обняла и гладила по голове, как когда-то в детстве его успокаивала сестра, когда тот поранился и плакал.
– Они находят в нас что-то хорошее, чистое, и стараются это изгадить, вывернуть наизнанку, – сказал он спокойно. – Потому что сами ничего такого не имеют. Ты не первый. И, боюсь, не последний.
В тот вечер Каэлин не стал своим. Но он перестал быть совсем чужим. Он нашел тех, кто понимал его боль без слов. И это понимание стало первым шагом назад из пропасти безумия. Оно не сняло боль, но дало опору. Он наконец смог уснуть, не боясь своих рук, под приглушенный храп солдат и тихое, ровное дыхание тех, кто, как и он, был обречен носить в себе проклятый дар.
Дни в бараке превратились в странное подобие жизни. Между изнурительными тренировками, унижениями и болью возникла хрупкая, но прочная связь. Каэлин начал понемногу оттаивать. Он слушал истории других: как забрали Айлу из цирка уродцев, где ее способности были лишь аттракционом; как Ларс, бывший солдат, обнаружил свой дар после того, как его отряд заблудился и погиб в глухом лесу, а он один вышел, точно зная дорогу; как Горна продали в солдаты его же родители, испугавшиеся, что у их сын спалит сам себя и это навлечёт позор на клан.
Каэлин и сам начал тихо, сбивчиво рассказывать о своем луге, о косе, о запахе скошенной травы. Глаза его светлели, когда он говорил о цветах.
Именно в эти моменты кто-то из них – то ли зоркая Айла, то ли внимательный Ларс – начал замечать странность. Синяки на лице и руках Каэлина сходили за ночь. Глубокие порезы от клинков, оставлявшие у других шрамы на недели, у него затягивались за пару дней, оставляя лишь розовые полоски новой кожи.
– Эй, Цветочек, – как-то раз обратился к нему Рен, – а ты что, еще и заживлять умеешь? Глянь, за меня тебе вчера эта сволочь руку порезала, а у тебя и следа нет.
Каэлин растерянно посмотрел на свою руку. Он и правда не придавал этому значения, списывая на крепкое деревенское здоровье.
– Я… не знаю. Я ничего не делаю.
– Рассказывай, – фыркнул Рен, но беззлобно.
Ларс пристально посмотрел на Каэлина.
– Надзиратель говорил, что в тебе переплелись силы жизни и смерти, да? Те, что нашли столичные маги. Мы видели проявление смерти. Эти твои… цветы. А где же жизнь?