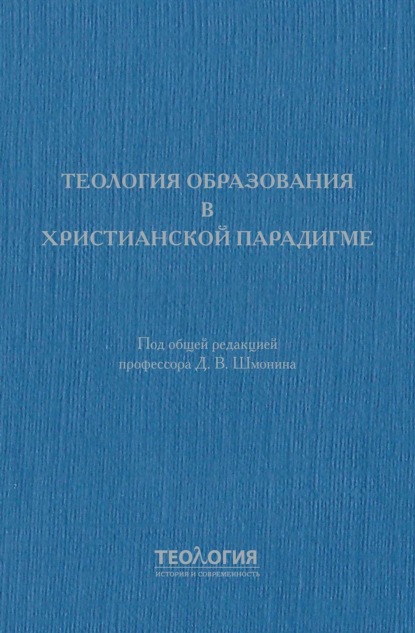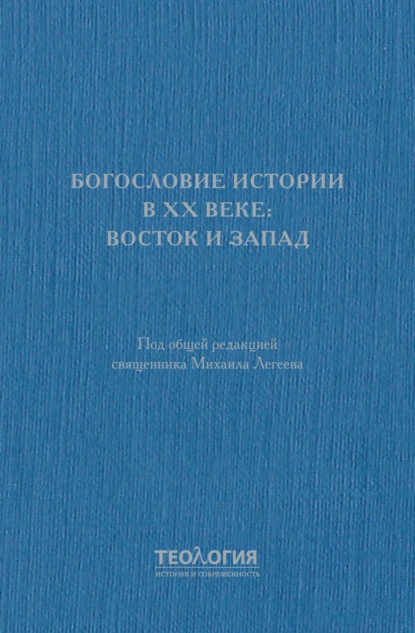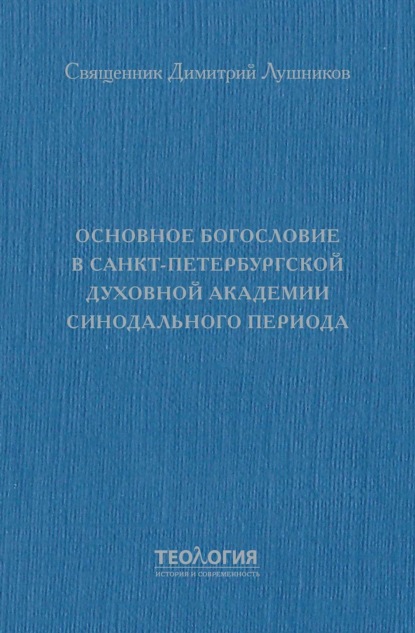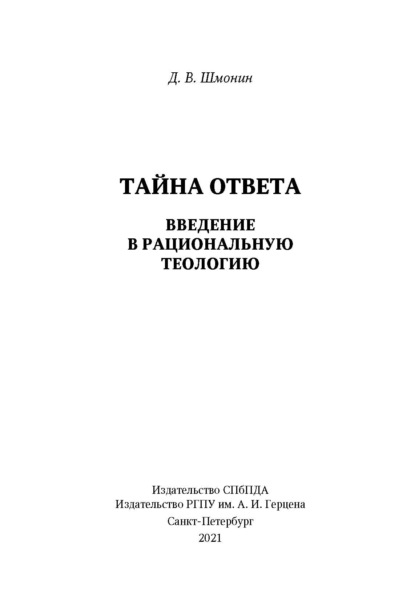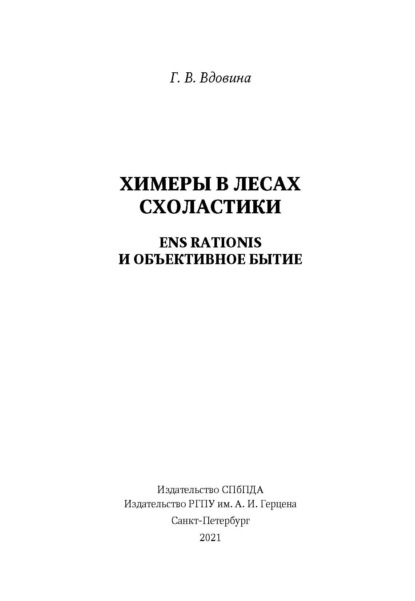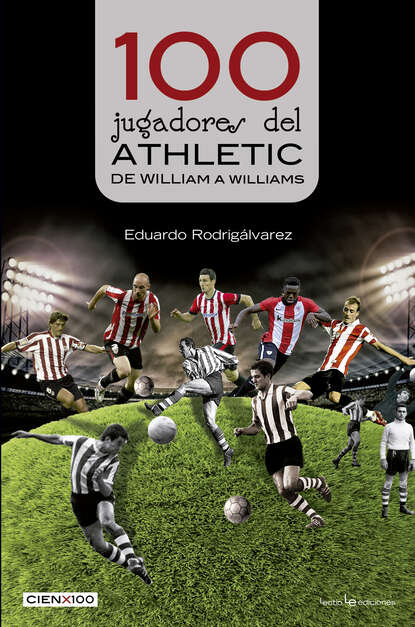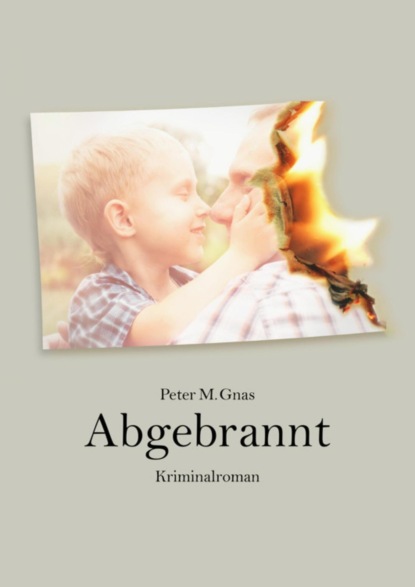Византийская философия. Четыре центра синтеза
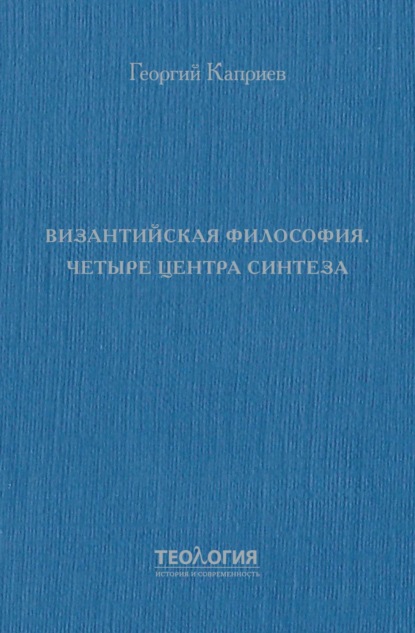
- -
- 100%
- +
Подобная философская работа может быть исторически установлена во всех случаях догматических формулировок. Как только соответствующие положения закреплялись в качестве догматов, они уже не принадлежали к сфере философских компетенций. После этого они могли интерпретироваться, но не расширяться или преображаться. Так как речь шла об аксиомах, здесь не было места ни аргументам, ни переформулировкам: эти положения дискуссии не подлежали. Именно аксиоматика стала фундаментом для разработки теологуменов, философских и аргументационных систем византийской философии, в которых выражалась ее собственная специализированная деятельность и по которым нужно судить о ее своеобразии, а также о качестве ее философских программ. Подходы в области философско-богословского умозрения выглядят совершенно по-разному в зависимости от отношения к догматике. Именно здесь проявляется личная креативность мыслителя и его философский характер; именно здесь философы являют свою готовность искать ответы на доводы своих оппонентов и изыскивать решения независимо от того, разделяют ли оппоненты их аксиоматическую базу или нет[20].
Вопреки этому, а может быть, именно поэтому в течение всего византийского периода продолжали преподавать греческую философию, пусть и в христианизированном варианте. Она фактически покрывала собою школьный куррикулум и даже доминировала в корпусе светских наук, включая в себя также немалый объем богословских знаний. Образование было почти полностью сосредоточено в светских училищах. Богословие никогда не преподавалось в качестве самостоятельной дисциплины. В то же время Византия не знала никаких «школ» духовной жизни, как то было на Западе, и теология никогда не была привилегией «профессионалов» или определенных сословий[21].
Традиционно подчеркивается, что Византия строго копировала античную традицию образования с ее ἐγκύκλιος παιδεία и принципом частного характера учебного дела. Это подкрепляется тем настойчивым утверждением, что между эллинской античностью и византийским временем не пролегало никакой культурной цезуры. Это не совсем так. Еще в 425 г. Феодосий II распорядился о создании в Константинополе высшего училища, в учебный план которого вводились две новые дисциплины, а именно юриспруденция и философия. Позже, в 617 г. (когда по приказу имп. Ираклия Стефан Александрийский переселился в столицу, чтобы грамотно преподавать учения Платона и Аристотеля) школьное преподавание греческой философии – во всяком случае, в Константинополе – не претерпело никаких серьезных разрывов[22].
В общих и высших училищах (в Византии никогда не было университета западного образца) речь шла, однако, лишь о рецептивном, по существу, преподавании античных философских учений. Сама ἐγκύκλιος παιδεία давала, в конечном счете, всего лишь общий средний уровень образованности. Эллинские философы преподавались через представление их сочинений. Византийские комментарии – это большей частью заметки учителей философии, призванные разъяснить наиболее трудные места и основные идеи изучаемых текстов; в силу этого большинство комментариев имели нетворческий характер по самому своему целеполаганию. Вот почему определение уровня философствования в Византии с помощью комментариев, как это допустимо относительно схоластической философии, – ложный ход. Подлинная философия сосредоточена не в этих текстах.
Философия на высоком уровне изучалась в частных школах (за исключением немногочисленных и кратких периодов, когда она преподавалась и в крупнейших публичных учебных заведениях, например, в последние десятилетия XIII в.). Именно такую ситуацию с любовью описывает Фотий во Втором послании папе Николаю I, где говорит о «сонме моего дома»[23]. Обычно школа располагалась в собственном доме учителя, и фактически не существовало никаких установленных правил относительно того, каким должно быть обучение и его методы. В византийской культуре не было особой философской институции и не возникло школьной философской традиции.
Более широкая, в сравнении с Западом, автономия философии в Византии происходила оттого, что как институционально, так и субъективно философия существовала в качестве частного дела и таким образом понималась, в том числе, Церковью. До тех пор, пока она оставалась в сфере частного, она могла держаться автономно даже по отношению к богословскому учению. Фотий однозначно говорит о «безнаказанном образе жизни»[24]. Однако эта позиция не безобидна. Только в таких обстоятельствах вырабатываются диалектические и герменевтические методы, доказательные процедуры, как и сами содержательные платформы отдельных философских программ. Их приложение к области официального, в том числе, к области умозрительной теологии, в сущности, никогда всерьез не анализировалось и не санкционировалось на институциональном уровне. Случись это или нечто подобное, под вопрос были бы поставлены содержательные коннотации выводов. Немногие исключения, когда осуждению подвергался «платонизм» или – еще реже – «аристотелизм» какого-нибудь автора, почти всегда имели государственно-политическую или церковно-политическую окраску.
Способ преподавания философии и его цели давали основание тому обычному у византийских философов утверждению, что у них «нет учителей». Конечно, это не означает, что они не получили образования у одного или нескольких преподавателей (очень часто мы даже знаем их имена). Философы хотели этим сказать, что они не следуют философским воззрениям никакого определенного мыслителя и не являются ничьими эпигонами. Кроме того, таким способом они утверждали, что не принадлежат ни к одной философской школе. Еще позднеантичные христианские авторы выступили против самого структурного принципа философских школ, «переименовав» школу (σχολή) в αἵρεσις (секту), – отдельное и уже тем самым ложное учение, заблуждение. Эта позиция окончательно оформилась при св. Иоанне Дамаскине, который полагал основными задачами философии рациональную формулировку истин христианской веры, их доктринальную систематизацию и опровержение ложного гнозиса. Поэтому св. Иоанн настаивал на том, что святые отцы – одновременно ученики и учители истины и истинной философии[25]. Ибо, когда речь идет о выражении истины, любое отступление от нее – ересь. Ересь – это мысль или мнение некоторого числа людей, входящие в противоречие с общепризнанной мыслью (κοινὴ ἔννοια), выражающей истину. Поэтому не случайно в длинном списке ересей находят себе место также эллинские философы (пифагорейцы, перипатетики, стоики, платоники, эпикурейцы)[26]. Так не в последнюю очередь утверждалась персональная автономия философии, которая тем не менее опиралась на единый, общий до-аргументативный фундамент.
Философ в Византии чувствовал себя свободным суверенно выбирать свою позицию и проблематику и применять свои методы. Это не предполагало никакого спонтанного эклектизма, но давало возможность эксплицировать личные философские позиции через понятия и подходы, нередко восходящие к тем или иным философским традициям. Вероятно, это объяснялось тем, что философ не испытывал вероучительного влияния со стороны этих традиций или испытывал лишь поверхностное влияние. В философии Византии налицо единая, почти общепризнанная основа, представляющая собой не эксплицированную в каждом отдельном случае аксиоматику. Разумеется, известны исключения (например, византийские томисты), которые, однако – уже потому, что пользовались греческим языком, – тоже опираются на общий фундамент ментальности и, следовательно, философского мышления. Когда св. Максим Исповедник упоминает единую «христианскую философию»[27], а св. Иоанн Дамаскин говорит о «философии» в единственном числе[28], они имеют в виду именно общефилософскую базу, основанную на христианском вероучении. Неслучайно философия в Византии – с одним-единственным исключением – считала себя христианской и действительно была таковой.
Ведущие философские школы античности – платонизм и аристотелизм (а вначале и стоицизм) – оказывали воздействие на христианскую философию и теологию главным образом (это нужно вновь подчеркнуть) в области терминологии. Заимствовались технические средства, понятия или даже целые концептуальные «панели», комплексы утверждений и проблем. Свободное использование христианскими мыслителями философских техник и терминологии не приводило к замыканию в некой философской системе. Христианское переосмысление понятий осуществлялось в единой и конкретной сотериологической перспективе[29]. Терминология опиралась на персоналистические метафизические предпосылки, глубоко чуждые эллинской философии[30].
Несомненно, те или иные христианские мыслители больше склонялись к платонизму (особенно в VI в.) или к аристотелизму[31]. При этом чистый платонизм или чистый аристотелизм не могли быть распознаны вплоть до 1440 г. Отношение к Платону в византийский период было отягощено подозрительностью, и платонизм стал единственной философской доктриной, официально осужденной Православной Церковью, причем трижды[32]. Аристотелевское учение рассматривалось более благосклонно, – быть может, потому, что, в отличие от платонизма, диалектику Аристотеля можно было изучать и использовать без оглядки на ее метафизические предпосылки, которые, впрочем, тоже отвергались[33]. Эллинская философия прочитывалась критически, через призму Св. Писания. Свободное обращение с традициями, без приспособления к тем или иным из них, свидетельствует именно об их преодолении, «снятии» в другой парадигме.
Когда православие говорит о «возвращении к истокам», то имеется в виду вовсе не возврат к минувшему, а постоянство и верность по отношению к Откровению[34]. Вся история христианского учения выстраивается вокруг одного и того же мистического ядра, в котором берут начало соответствующие богословские системы[35]. Различные периоды предвизантийской и византийской мысли, сформированные этими системами и подчиненные им, следует рассматривать как доктринальные циклы, где традиция бережливо сохранялась, но одни ее аспекты получали преимущество перед другими. При этом любые темы до известной степени понимались как функции от одного вопроса, ставшего для ситуации мышления центральным[36].
Нельзя говорить о развитии в содержании веры, которое есть сама личность Иисуса Христа; развиваются лишь ее формулировки по отношению к изменчивому миру[37]. Зато вполне закономерно говорить о развитии доктринального массива. Сохранение постоянного содержания веры не означает бездействия и творческой немощи в области богословствования[38]. Такое развитие, как и связанные с этим доктринальные и историко-ситуативные осложнения, является не «догматической революцией», а скорее «инволюцией», следующей за дискурсивным представлением и уточнением догматов. Эта «инволюция» легче всего распознается как постепенная выработка интеллектуального инструментария и закрепление адекватной доксологии[39]. Внешний взгляд воспринимает эти процессы, в первую очередь, как концентрирующиеся вокруг задачи образования корректных понятий[40]. Их результатом стала впечатляющая «византийская тонкость»[41].
Когда в ходе тех же процессов философские измерения в своей совокупности достигают принципиального углубления и принимают новый тип взаимосвязи между собой, в рамках соответствующего доктринального цикла следует говорить о достижении действительного синтеза[42]. Тут нас, прежде всего, будут интересовать центры синтезирующей деятельности в византийский период. Они, однако, останутся непонятными без рассмотрения предшествовавшей им работы христианской мысли между IV и VI вв.
Предвизантийская традиция
Вся восточная традиция немыслима без Оригена (ок. 185–254), без его экзегезы, без его тринитарного, космогонического, антропологического и эсхатологического умозрения. Дело Оригена будет активно осваиваться, преодолеваться, отбрасываться, осуждаться, а интенсивность и результаты этих процессов в немалой степени гарантируют высокую исходную базу византийского умозрительного богомыслия.
Афанасий Александрийский
В первые десятилетия IV в. выделяется фигура св. Афанасия Александрийского (295–373). В его творчестве обсуждались темы, которые доминировали в дискуссиях на протяжении целого столетия. Тринитарное учение св. Афанасия выстраивалось как ответ на арианскую смуту, осуждению которой на Первом Вселенском Соборе он способствовал решающим образом.
Человек, говорит св. Афанасий, обретает общение с Богом только в единосущном Сыне и единосущном Духе, соединяющих нас с Отцом. В противовес Арию, св. Афанасий сместил акцент с космологии на сотериологию. Его исходную позицию в тринитарной полемике составляло учение о совершенной простоте и внутренней полноте бытия Бога: единосущие – не подобие, а тождество в подобии. Бог вечен, а значит, вечно и рожденное Слово Божие. Отношения между Отцом и Сыном исключают любое следование или «расстояние» между ними. Рождение Сына определяется как рождение по природе; этим подчеркивается, что таково необходимое состояние внутрибожественной жизни.
Св. Афанасий первым – в споре с оригенизмом и арианством – ввел различение между сущностью и волей Бога. Тем самым без нарушения божественной простоты было утверждено различие между божественным бытием и действием. У бытия Отца и Сына нет причины, в которой нуждается самое последнее бытие, творимое Богом по Его свободной воле. Св. Афанасий отличает трансцендентную сущность (рождение Сына и исхождение Духа ἐκ τῆς οὐσίας – «из сущности») от божественной силы и благости, которые суть то, чт. е. «у» Бога (τὸ περὶ αὐτόν) и от чего идут божественные проявления ad extra: Его энергия, Его домостроительство, Его творение, Его деяния.
Бог стал человеком, заявляет св. Афанасий, чтобы человек мог стать богом. Эта мысль предопределила всю антропологию православия. Нетрудно увидеть, что в догмате о единосущии св. Афанасий защищает действительность спасения, причем спасение человека, его обожение понимаются не в моральном, а в бытийном плане. Слово стало носителем плоти, чтобы люди могли стать носителями духа. Дух и энергия Слова и тело Христово суть инструменты, органы божественной энергии. Созерцание Бога – уже не интеллектуальный гнозис Климента и Оригена, а элемент обожения человека, рассматриваемого как единство души и тела. Искупление, это деяние Слова, есть усовершение и восстановление творения. В нем, однако, заключается «нечто большее», чем простой возврат в первоначальное состояние. Преодолевается тление; творение обретает окончательную устойчивость через «тело Божие»; создается новая тварь, дабы сыны человеческие сделались сынами Божиими[43].
Каппадокийцы
Во второй половине IV в. мы становимся свидетелями первого всестороннего богословско-метафизического христианского синтеза. Его основанием послужила триадология, тринитарные вероучительные определения. Речь идет о каппадокийском синтезе[44]. Св. Василий Великий, епископ Кесарийский (330–379), св. Григорий Назианзин, прозванный Богословом (ок. 330–389/390) и св. Григорий, епископ Нисский (между 335/340 – после 396), родной брат Василия, трудились в непрестанном взаимодействии. Опираясь на переходных христианских авторов (быть может, испытавших самое сильное влияние Оригена) и активно используя понятийный арсенал эллинской философии, каппадокийские святые выработали принципы христианской философии[45] и своим творчеством проложили пути всему православному мышлению.
Одним из самых существенных достижений каппадокийцев стало уточнение тринитарной терминологии. Исходным основанием для них служит полнота божественного бытия. Бытие по самой своей природе безгранично и беспредельно, вечно и просто, неизменно и неделимо. Полнота божественной жизни выражается в тайне единосущной и нераздельной Троицы. Продвигаясь к пониманию знания о Троице, данного в Откровении, каппадокийцы провели различение между сущностью и ипостасью, утвердив учение о единосущии.
Никейское словоупотребление закрепило единство Бога через понятие «единосущие», но не рассеяло неясности относительно троичности. Не было термина для «Трех», Которые есть Бог. «Лицо» пока еще оставалось непривычным термином, открывающим простор для савеллианства. Античная философия тоже не располагала непосредственно пригодным техническим термином. Каппадокийцы фактически едины в своем новаторском терминологическом разъяснении этой проблемы, независимо от различий между ними, которые установлены сегодня, например, в толковании понятия сущности. Что касается троичности, они остановились на термине «ипостась» (ὑπόστασις). У Аристотеля это слово служило непонятийным обозначением наличия чего-то действительного, в противоположность чему-то кажущемуся, воображаемому. В интерпретации каппадокийцев «ипостась» указывает на существование отдельных сущих не только с оглядкой на их общую сущность, но и с оглядкой на их неотъемлемые свойства, выраженные в их собственных признаках (γνωρίσματα или ἰδιώματα), которые отличают их от любых других сущих, причастных той же природе. Понятие «ипостась», категориально принадлежащее к тому же порядку, что и «сущность», выражает не индивидуирующий признак, а его носителя, коему этот признак предицируется. Акцент ставится не на вычленении различий между Лицами, а на том, что каждое из Них существует в истинной ипостаси, коль скоро даже Савеллий не отрицал за каждым из Лиц одной безыпостасной фигуры. При выдвижении на передний план общей формулировки «сущность» (οὐσία) выражает аристотелевскую (не знающую «больше» или «меньше») «вторую сущность» – общее, или родовое, бытие, общую природу, которая в последних сущих не существует иначе, кроме как в содержащих ее индивидах. Это не применимо к простой и несоставной божественной сущности. Собственные свойства единосущных ипостасей, через которые Они отличаются Друг от Друга и соотносятся между Собой, не являются следствием акциденций, внешних по отношению к тождественной Им сущности. Божественная природа постоянна, и в этом открывается единство и тождество божественного бытия и жизни. Сущность не есть Бог в трех богах. Она сама по себе численно есть одно существо. Бог – это одно-единственное божественное существо (сущность) в трех существах (ипостасях)[46].
Опять-таки у каппадокийцев (у св. Василия Великого и особенно у св. Григория Нисского) впервые появляется, причем именно в тринитарном контексте, понятие «способа существования» (τρόπος τῆς ὑπάρξεως), которое сопоставляется с «принципом сущности» (λόγος τῆς οὐσίας). Если «логос сущности» выражает, «что́» есть нечто, то «способ существования» свидетельствует о его «как», не представляющем собой угрозы единству «что́». Такой «способ существования» описывает отношения между Лицами и отношение Их к сущности во внутритринитарной жизни. Действительно, у каппадокийцев это выражение еще не имело статуса термина. Такое значение оно обрело у вообще-то не склонного к умозрению Амфилоха, епископа Иконийского (340/345–389/404), близкого к св. Григорию Богослову. Именно так, однако, св. Григорий Нисский описывает Отца и Сына – главным образом через «нерожденность» и «единородность» как «способы существования»; в качестве третьего способа (τρόπος) он указывает «исхождение» Святого Духа через Сына (δι' υἱοῦ), где «через» имеет онтологический, а не только икономический характер, не означая, однако, сопричинения[47].
Важное место в учении каппадокийцев занимает тезис о несотворенном едином действии единой природы Божией, отражающий троичность ипостасей и их порядок, – действии, в котором они вступают в отношение с миром. Проводится различение между самой божественной сущностью и тем, что созерцается «около» сущности, – περὶ αὐτόν. Речь идет об энергиях, несотворенных проявлениях божественной жизни вовне сущности. В них открывается порядок икономии, в котором Отец действует через Сына и усовершает в Духе Святом.
Божественная сущность остается абсолютно непознаваемой; высказывания о Ней совершенно невозможны. То в Боге, что доступно человеческому познанию, суть энергии: всякое имя Божие обозначает силу или действие Бога. Каппадокийцы решительно выступали как против скептицизма в отношении человеческих возможностей богопознания, так и против самоуверенного утверждения, что с помощью неких особенных «предметных, сверхчеловеческих имен» можно познавать саму божественную сущность. Св. Василий Великий настаивал на том, что даже тварные вещи познаваемы не по их сущности, а по их свойствам и качествам, что в несравнимо более высокой степени справедливо применительно к бесконечной и неделимой божественной сущности. Это означает не то, что Бог остается совершенно непознанным, а то, что мы познаем «действия», или «энергии» сущности, вступающие в отношение с нами. Единственное исключение здесь – имена ипостасей, их свойств и отношений, но и те нам даны сообразно способностям нашего ума. Не только сущность Бога, но даже и совокупность ее энергий не может быть полностью охвачена разумом по причине его ограниченности. Поэтому каппадокийцы многократно подчеркивают, что движение богопознания есть путь, бескрайний путь человеческого ума к полноте божественного света.
Каппадокийцы высоко ценят человеческий разум и вместе с тем настаивают на том, что для познания Бога он нуждается в Откровении и вере. Динамика познавательного приближения к Богу, подчеркивает св. Григорий Нисский, предполагает подвиг и любовь, ἔρως. Прежде всего, человеку нужно открыть Бога в самом себе, в душе, которая должна быть чистой от всего «чуждого»: от чувственных образов, от плотских вожделений, от страстей. Душа должна совлечься всего зримого, чтобы не иметь в себе ничего, кроме Бога. Она познает Бога в светозарном мраке, потому что Бог пребывает там, куда не достигают понятия. Во мраке душа сознает свою бесконечную удаленность от совершенства, и это – элемент действительного богопознания, поскольку Сам Бог сущностно превыше всякого познания. На вершине созерцания открывается свершенное ради нас боговоплощение Христа – Слова, ставшего плотью. Кульминация человеческого пути богопознания – божественное и трезвое упоение, исступление ума, экстаз: созерцание превыше образов и понятий. Все это совпадает с позицией св. Иоанна Златоуста (344–407), который настаивал на том, что невидимый и непознаваемый по своей сущности Бог открывается и постигается в Его, если можно так выразиться, исхождении из Своей природы и нисхождении в творения, чт. е. дело Его воли. Таким нисхождением и стало воплощение Сына, где Слово, этот невидимый образ Бога, сделалось видимым для человека. Бога можно созерцать в человечестве Христа[48].
Бог Своими энергиями творит мир из ничего. Божественные творческие «мысли», или «образы мира», насколько они отличаются от божественной природы, никоим образом не ограничивают свободу личного Бога. Все вещи, пишет св. Григорий Нисский, были сотворены Богом одномоментно, в одном вневременном акте, но сотворены в потенциальных, семенных формах, сосредоточивших в себе энергию и «программу» будущего развития, запускаемую в определенное для всякой вещи время. Единство всех этих «логосов» творения заключено в божественном Логосе, Им познается и определяется. Св. Василий Великий непосредственно сопоставляет неоплатоническую идею эманации с христианским догматом о творении из ничего. В то время как первая представляет собой непроизвольную и автоматическую процессуальность, второе напрямую зависит от воли Божией, будучи свободным волевым актом. В то время как в первом случае Бог эманирует Самого Себя, во втором случае речь идет о творении из ничего. Если эманация – вечный процесс, то творение протекает во времени.
Контингентное бытие возникает через переход от несуществования в существование, через изменение и запуск движения. Так полагается начало времени. Но само это начало, подчеркивает св. Василий Великий, не есть время. Бог творит мир одномоментно, однако мир не одномоментно осуществляется в своей полноте и упорядоченности. Начало времени есть момент, лежащий вне времени. Глас веления может быть краток, это даже не глас, а устремление воли.
Св. Василий отрицает с равной решительностью как предсуществование первоматерии, этого «конкурирующего» с Богом принципа, так и первоначальное создание такой материи, из которой впоследствии творится все. Как раз наоборот, он настаивает, что Бог создал всякую сущую сущность сразу как материю и форму: материя и форма неразделимы в реальности. Согласно учению св. Григория Нисского, природа материи есть результат простых качеств, которые порознь сверхчувственны, но их совокупность, взаимодействие и конкретное проявление производят субстрат чувственных вещей, их телесность. Динамика этой космологии исключает противопоставление понятий «природа» и «благодать». Они взаимно проникают друг в друга, существуют одна в другой. В святоотеческом богословии нет такой вещи, как «независимая природа», потому что «природа» существует в зависимости от сверхприродного Бога. Благодать необходима природе, чтобы та продолжала оставаться подлинно собой. Будучи лишена благодати, природа перестает быть истинной и влачит неподлинное существование. В таком горизонте нет возможности утверждать какую бы то ни было субстанциальность зла. Зло – не природа, а состояние (ἕξις) и привносится в мир волей как влечение воли к небытию, отрицание бытия и ненависть к благодати[49].