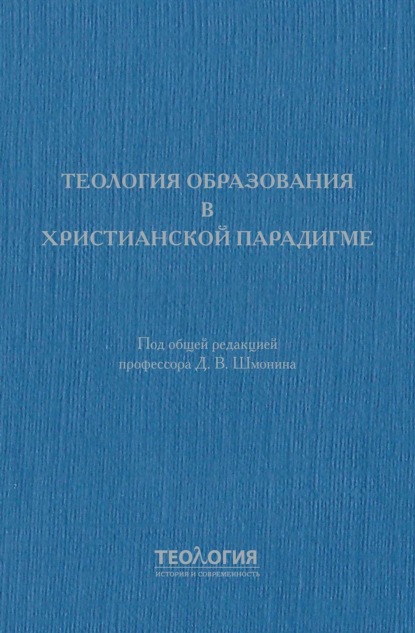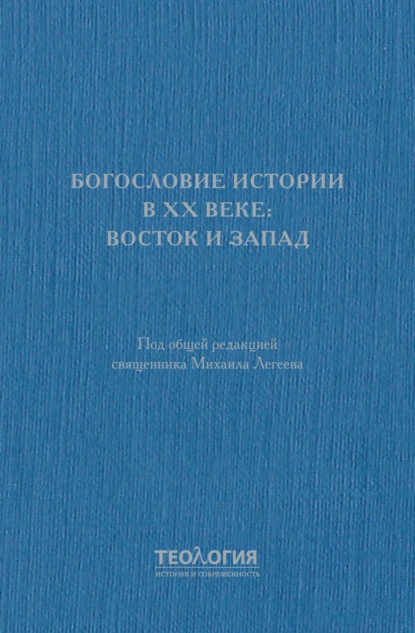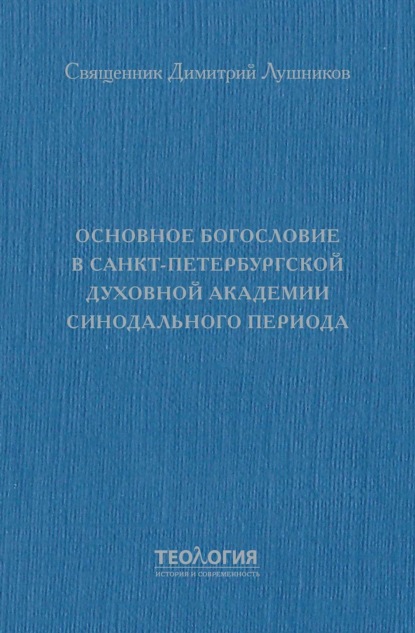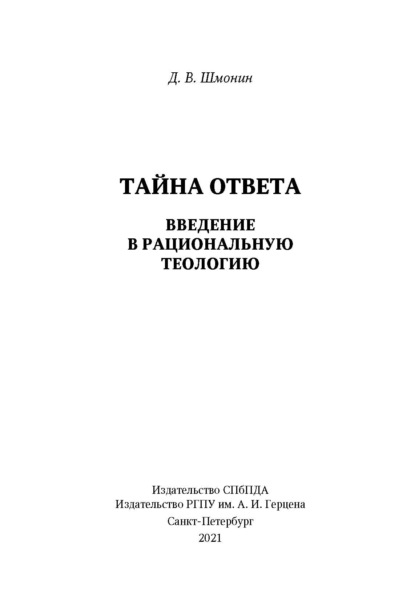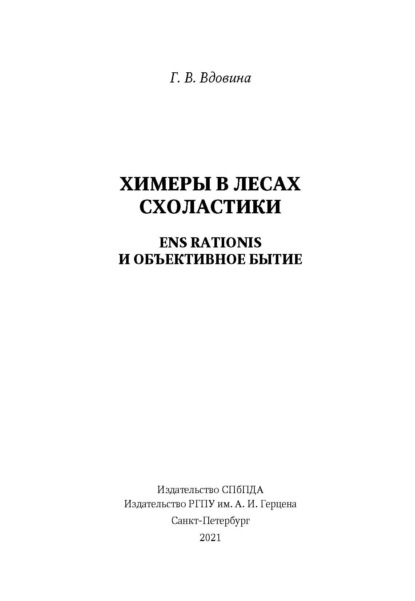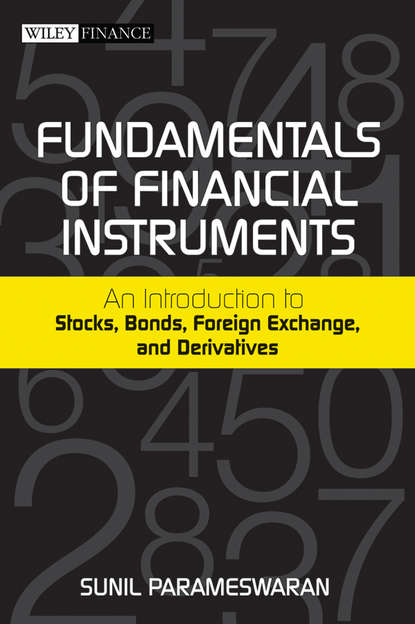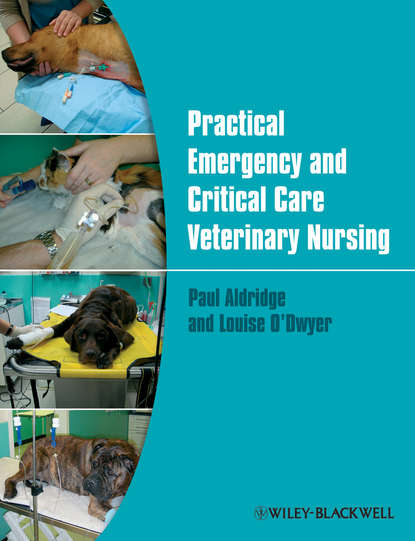Византийская философия. Четыре центра синтеза
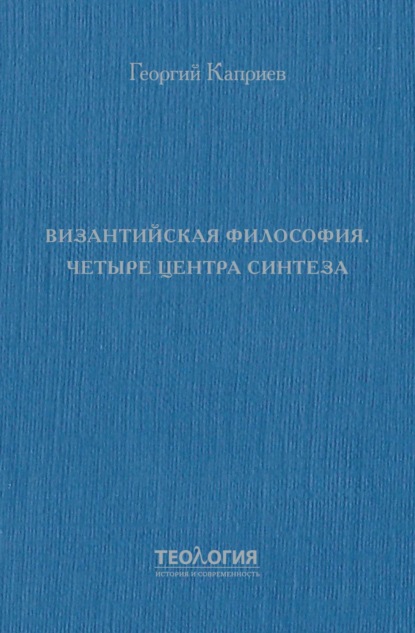
- -
- 100%
- +
Быть может, именно поэтому Иоанн Грамматик, по прозванию Филопон († после 570), монофизитствующий тритеист и автор учения о воскресении, осужденного в 680–681 гг., в своей написанной между 514 и 518 гг. апологии Халкидона акцентировал при толковании ипостаси не характеризующие ее свойства, а «бытие согласно самому себе» (καθ' ἑαυτὸ εἶναι). Филопон представил момент самостоятельности в качестве конститутивного для ипостаси и таковым вовлек его в христологическую рефлексию. Здесь речь идет не о двух абсолютно разных дефинициях ипостаси, а о двух разных, но не исключающих друг друга аспектах обозначения через «ипостась»[65].
Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский
Действительно продуктивное утверждение расширенной дефиниции «ипостаси» и следствий этого расширения стало делом Леонтия Византийского (до 500–543) и его кодификатора и продолжателя Леонтия Иерусалимского. До недавнего времени Леонтия Византийского считали тем человеком, который ввел аристотелизм в греческое мышление о Боге и по причине своего силлогистического метода заслужил титул «первого схоласта в греческом богословии», положив в нем начало новой умозрительной фазе[66]. Сегодня такая оценка требует нюансировки и релятивизации. Тем не менее остается бесспорным, что его работа с понятиями, в существенной мере основанная на диалектике Аристотеля, оказала решающее влияние на первый период византийской философии. Именно Леонтий преодолевает первоначальное напряжение между определением ипостаси через характерные признаки и через ее самостоятельность, достигнув формальной конвергенции καθ' ἕκαστον (согласно каждому) и καθ' ἑαυτόν (согласно самому себе).
При синтезировании двух аспектов ипостаси стало возможным непротиворечиво обозначить уже не только некоторое сущее отдельно от некоторой природы, но и такое сущее, которое состоит из разных природ. Расширение понятия высветило этот уровень в конституции ипостаси: уровень, находящийся выше отдельных природ. Отсюда стало возможным и умозрительное выведение того факта, что Слово приняло в Себя человеческую природу, причем в ее собственной бытийности: в том статусе, каким обладает природа как таковая, ее логос не оказывает влияния на ее ипостасную актуализацию.
Отсюда уже можно прийти к тому уточнению, что воспринятая Логосом человеческая природа усвоена не как вид, или видовая природа, не как природа, к которой причастны все человеческие индивиды. Нет, она усвоена как «индивидуальная», или «отдельная и неделимая природа», ибо у Слова нет другой ипостаси. Воспринят был не общий человек, а целый человек. Что касается вопроса об индивидуации, здесь Леонтий провел весьма тонкое различение: общее понятие и видовая природа (φύσις ἐν τῷ εἴδει θεωρουμένη – природа, созерцаемая в общем понятии) конкретно существует, однако только как природа некоторого определенного сущего (φύσις ἐν τῷ ἀτόμῳ θεωρουμένη – природа, созерцаемая в индивиде). Специфическое понятие для самостоятельной индивидуальности, или субсистентности, есть ипостась. У Леонтия Византийского, как и у св. Григория Нисского, самостоятельное сущее выражается как понятием ὑπόστασις, так и понятием ἄτομον, которое не следует путать с φύσις ἐν ἀτόμῳ – неделимой отдельной природой. Различие между общей и индивидуальной природами не нужно понимать так, словно природа была где-то предварительно индивидуализирована и лишь потом воспринята ипостасью Слова. Здесь речь идет о двух разных логических аспектах одной и той же бытийной реальности. Неделимая отдельная природа тоже обладает бытийной действительностью не в какой-то предсуществующей самостоятельности, а только в качестве субсистирующей в некоторой ипостаси. Воспринятая Словом неделимая отдельная человеческая природа обретает свою индивидуальность лишь от ипостасного единения с Лицом Логоса, однако Логос не рассматривается при этом как возможный индивид какого-то вида, общего для множества индивидов. Ипостасная самостоятельность Слова в составленности Христа есть предельный принцип как единения, так и индивидуальности. При таком понимании становится вполне естественным говорить о собственных свойствах человеческой природы во Христе, не прибегая к несторианской второй ипостаси[67].
В связи с этим Леонтий Византийский вводит понятие, чаще всего соотносимое с его именем: «воипостасное» (ἐνυπόστατον). Обозначаемое им не совпадает ни с «ипостасью», ни с «сущностью», хотя в ипостаси и удостоверяется наличие определенных природ. Понятие «воипостасное» создано как коррелирующее с «безыпостасным», т. е. «не имеющим собственной ипостаси»: именно таким утверждается присутствие человеческой природы во Христе. «Безыпостасное» (ἀνυπόστατον) имеет два смысла: первый – нечто вообще не сущее, второй – имеющее бытие в чем-то ином, как, например, акциденции в субстанции. Второй смысл – единственный, который Леонтий Византийский влагает в термин «воипостасное». Тот допускает только два возможных способа множественного существования в связке «природа – ипостась»: единство различных ипостасей в одном эйдосе / виде или единство различных видовых природ в одной ипостаси. «Воипостасное» выражает состояние действительного бытия в ином: наличие одной сущности в ипостаси, в которой субсистирует другая сущность. Именно так ипостась Христа воипостазировала в себе неделимую отдельную человеческую природу, с которой божественная природа вступила в ипостасное соединение, не искажая этим природного логоса, сущностных свойств, сил или энергий обеих природ. Не подвергаясь изменениям, две природы взаимно проникают друг в друга (перихореза), так что через единение с Логосом плоть сама становится источником вливающейся во всецелую человечность божественной жизни.
У Леонтия Иерусалимского появляется еще одно понятие, не встречающееся в текстах Леонтия Византийского: «составная ипостась» (ὑπόστασις σύνθετος). В нем получает достаточно сильное выражение тот тезис, что единение природ во Христе свершилось на ипостасном, а не на природном уровне. Это понятие послехалкидонской теологии сделало возможной смысловую доступность догмата о неслитном и нераздельном единстве природ во Христе. Оба Леонтия утверждают, что Христос, всецело Бог и всецело человек, имеет Своими непосредственными частями Божество и человечество. Пока душа и тело остаются «частями частей», нет нужды упоминать их порознь. В то же время оба Леонтия настаивают на точной аналогии между ипостасным единством во Христе и единством души и тела в человеке. Это утверждение не только заключает в себе онтологическую неясность, но и свидетельствует о завышенной оценке ипостаси в отношении к природе. Уравновешивание этого отношения – проблема, решать которую будет следующее столетие[68].
Псевдо-Дионисий Ареопагит
Шестой век принес не только уточнение христологической терминологии и ходы в сторону соединения триадологической и христологической понятийных систем. Не исчерпывает его также установление и систематизация центральной формы монашеской жизни. В этом столетии были подвергнуты осуждению метафизические принципы Оригена, Дидима и Евагрия (533 и 553 гг.). Тем самым было заметно ослаблено влияние платонизма на христианскую мысль. Впрочем, эти решения были частью единого процесса, начавшегося задолго до того. В ту же эпоху были также официально утверждены основные святоотеческие авторитеты. Ко всему этому следует добавить и закрепление отношений государства и Церкви в рамках христианской империи.
В начале того же столетия (между 518 и 528 гг.) официально появились четыре трактата и десять писем, в совокупности составившие «Ареопагитики» (Corpus Areopagiticum). Неизвестный автор этих текстов выдавал себя за Дионисия Ареопагита, афинского последователя апостола Павла; однако фактически самая ранняя версия «Ареопагитик» не могла быть написана до 476 г. Кроме того, она не просто нагружена буквальными цитатами из Прокла († 485), но и пронизана духом неоплатонической философии, которую отстаивал Прокл (в отличие от преимущественно плотиновской системы Оригена). Если александрийский платонизм в VI в. попал под осуждение, то один (в действительности сильно христианизированный) вариант афинского платонизма обрел легитимность через «Ареопагитики». Платонизирующий характер «Ареопагитик» стал причиной не только постоянно возникающих на Востоке сомнений в аутентичности текста[69]: вся византийская рецепция корпуса представляет собой перманентный процесс его деплатонизации. Уже в VI в. в школе Иоанна Скифопола текст был не только откомментирован, но и отредактирован[70]. В то же время, однако, «Ареопагитики» сами по себе были христианским ответом на собственно платоновскую метафизику и ввели в нее поправки, существенные для дальнейшего развития христианского умозрения.
Круг основных тем корпуса определяется, в первую очередь, типами богопознания. Дионисий говорит о символической, дискурсивной или логосной теологии (апофатической и катафатической), а на самую вершину познания ставит мистическое богословие. Оно запредельно любым (позитивным и негативным) определениям, любым образам, фигурам, понятиям, идеям. Мистическое богословие осуществляется не в интеллектуальном процессе, а в эротическом экстазе, в котором действует и все приводит в движение исходящая от Бога и к Богу же возвращающаяся любовь. Но даже в этом случае познается не сам по себе Бог, Чья сущность остается абсолютно непостижимой, а «первоосновные божественные логосы».
Действие этих логосов есть осуществление божественной силы, а она осуществляется как сам божественный луч – одновременно бытийный, познавательный и ведущий к совершенству, возводящий целую небесную и церковную иерархию бытия, познания и спасения. Луч этот последовательно передается с более высокого на более низкий уровень, тогда как движение совершенствования идет от более низкого уровня к более высокому и есть строго индивидуальный, личностный процесс. Сам иерархический принцип предполагает принятие платонической схемы «покоиться в себе – исходить из себя – возвращаться к себе», а отсюда рождаются три иерархических движения (круговое, прямолинейное и спиральное). В такой структуре нет места злу, которое представляет собой не природу, а лишенность, недостижение блага и бытия. Нужно обратить внимание на то, что Дионисий категорически отвергает платонический принцип эманации и заменяет его принципом причастности. Бог, однако, остается стоящим над всей иерархией: Он – ее начинатель и творец, но не ее член.
Имена Божии, составляющие другую важную тему «Ареопагитик», суть имена не божественной сущности и не ипостасей, а всецелой неделимой божественности в ее самовыражении, имена божественных сил, создающих иерархию, удерживающих ее в бытии и привязывающих ее к Богу через причастность им самим. Первое божественное имя – благо, описываемое в доступных человеку терминах как полнота силы Божией, насколько оно простирается на сущее и не-сущее. Следующие имена (сущее, единое, истина, жизнь, мир и т. д.) пытаются охватить те или иные измерения божественного присутствия и действия.
Высшую цель составляет возвращение к Богу, личное обожение. Сам термин θέωσις (обожение), видимо, был утвержден Псевдо-Ареопагитом по аналогии с θεοποίησις (обожествлением)[71]. Обожение означает всецелое присутствие в божественном свете, благодатное превращение в то, чем Бог является по природе. Бог есть начало всех вещей и тот предел, которого те способны достигнуть в постижении полной меры своего совершенства[72].
Накопление богословских и философских идей с IV по VI вв., выявление проблемных областей, тематических целостностей, терминологических кругов сформировали основной массив восточного мышления о Боге вообще, а вместе с ним и основной массив византийского философствования. У самого начала собственно византийской истории мысли находится один могучий и фундаментальный синтез: творчество св. Максима Исповедника.
Св. Максим Исповедник
Сведения о ранних годах св. Максима Исповедника[73] противоречивы. Достоверно известно, что дата его рождения приходится на 579 или 580 гг. Согласно греческим житиям (самые ранние сохранившиеся рукописи восходят к X в.), он родился в Константинополе в богатом и влиятельном семействе, получил блестящее образование и в 21 год находился при дворе имп. Ираклия. Утверждается даже, что он занимал пост первого секретаря императора, что, впрочем, неправдоподобно. Около 613 г. Максим принял постриг в монастыре св. Филиппа в Хрисополе, недалеко от Константинополя. Считается, что в 624 или 625 гг. он оставил этот монастырь и сделался насельником монастыря св. Георгия в Кизике. Здесь были написаны его сочинения Liber asceticus, Capita de caritate, Quaestiones et dubia и др., включая первую версию Ambigua ad Iohannem.
Согласно сирийскому житию (явно монофизитского толка), Максим появился на свет в палестинском селе Хефсин и при рождении получил имя Мосхион. Отец его был ткачом, самаритянином по происхождению, а мать – персидской рабыней. Будучи отвергнуты общиной самаритян, они нашли убежище у христианского священника Мартирия, укрывшего их. После смерти родителей Мартирий отвел Мосхиона в монастырь св. Харитона, игумен которого, Панталеон, должно быть, был оригенистом. Здесь Мосхион получил монашеское имя Максим.
В 617 г. монах Афанасий стал его учеником, и это вторая достоверная информация о жизни св. Максима. Во время персидских нашествий 626 г. св. Максим через Крит и Кипр добрался до Северной Африки, поселился в монастыре св. Эвкратия близ Карфагена и встретился с Софронием, которого принял как своего духовного отца. В тот период была создана значительная часть произведений св. Максима: Ambigua ad Thomam, Mystagogia, Quaestiones ad Thalassium, Quaestiones ad Theopemptum, Capita theologica et oeconomica, некоторые из Opuscula theologica et polemica, окончательный вариант Ambigua ad Iohannem, множество писем и др.
В 633 г. патриарх Константинопольский Сергий распространил «Пакт об объединении», нацеленный на примирение с недовольными монофизитами. В конце года под влиянием Софрония он смягчил тон, потребовав в опубликованной им торжественной декларации («Псефосе»), чтобы никто больше не спорил об одной или двух энергиях во Христе. Вопреки этому, акцент в декларации ставился на «одной богочеловеческой энергии Христа». В 634 г. Софроний стал патриархом Иерусалимским и уже в своем синодальном послании выступил с резкой критикой декларации, настаивая на том, что из присутствия двух природ следуют две энергии, что не предполагает, однако, двух ипостасей. Еще раньше, в 633 г., в письме к Пирру св. Максим толковал «Псефос» в дифелитском смысле.
В 638 г. Сергий и Ираклий распространили исповедание веры («Эктесис»), где признавали только одну волю во Христе. Это положило начало монофелитским спорам. В 638 г. умирает Сергий, а в 639 г. – Софроний. В том же году Пирр, новый патриарх Константинопольский, утвердил «Эктесис» на Соборе. Максим в 645 г. провел в Карфагене диспут с Пирром (смещенным с патриаршего престола в 641 г. и вновь интронизированным в 654 г.), убеждая того в правоте своих тезисов, и вместе с ним отправился в Рим. В следующем году африканские епископы официально отвергли «Эктесис»; однако в 647 г. император Констант II в своем «Типосе» строго запретил любые дискуссии вокруг одной или двух энергий и воль во Христе.
Избранный в июле 649 г. римский папа Мартин I созвал в октябре того же года так называемый Латеранский Собор, который решительно осудил «Эктесис» и «Типос» вместе с их авторами и сторонниками. Документы Собора были подготовлены с непосредственным и активным участием св. Максима, подписавшего заключительный акт как «Максим монах» (maximus monachus; он никогда не был ни священником, ни игуменом). В 653 г. св. Максим и Мартин I подверглись заточению, а в 655 г. осуждены за государственную измену и сосланы, соответственно, во фракийскую Визию и в Херсонес. В том же году Мартин умер.
Св. Максима отправляли во все более отдаленные места, пока, наконец, в 662 г. он и два его ученика, оба Анастасии, не были анафематствованы Собором в Константинополе, созванным по инициативе императора. По решению светского суда св. Максим был подвергнут членовредительству (ему отрезали язык и правую кисть) и вновь заточен. Он умер 13 августа 662 г. на пути в Лазику. Шестой Вселенский Собор (680–681 гг.) всецело подтвердил правоту его учения и жизненного подвига, правда, не упоминая имени св. Максима и тем более не реабилитируя его открыто. Вскоре после того св. Максим был канонизирован.
От св. Максима Исповедника до нас дошли семьдесят четыре малых и больших сочинений и пятьдесят писем[74]. Сочинения св. Максима не имеют систематического характера. Он предпочитал писать фрагментарно, «по поводу», вникая в глубину проблемы. Несмотря на это, его творчество являет собой одну масштабную систему мышления. Более того, он осуществил могучий и сбалансированный синтез различных источников и тематических планов, развернутый с замечательной внутренней последовательностью. Св. Максим Исповедник объединил в своем творчестве духовные и доктринальные достижения предвизантийской эпохи и вывел их на более высокий уровень.
Св. Максим утверждал, что не сказал ничего от себя, а говорил только то, чему научился от отцов, ничего не меняя в их учении[75]. Он сознательно стоял в традиции, выступая против любых еретических новшеств, однако был не компилятором, а вполне самостоятельным мыслителем. Как в своем экзегетическом методе, так и в отношении к Преданию он хранил верность духу, а не букве наследия. Его учение включало в себя и корректировало унаследованную античную мысль (Аристотеля, Платона, неоплатоников), а также различные духовные направления, развиваемые христианскими мыслителями (прежде всего, св. Григорием Богословом, св. Григорием Нисским, Псевдо-Дионисием Ареопагитом, Леонтием Византийским). При этом ему удалось совместить несколько понятийных миров, казалось бы, утративших всякую связь друг с другом, за счет обнаружения центров взаимодействия между ними. Особенного внимания заслуживает его отношение к Оригену и Евагрию. Оригенизм он отвергал во множестве пунктов, но в то же время делал это с полным пониманием того, что́ было в нем ценного, и принял это ценное, придав ему более продуктивную направленность. Можно сказать, что позитивное преодоление оригенизма свершилось только в гомогенном учении св. Максима Исповедника.
Познание и богопознание
Центр синтеза, осуществленного св. Максимом Исповедником, составляет христология, выстроенная вокруг догмата о двух волях и двух природных энергиях во Христе. При этом речь идет о христологической мысли, постоянно коррелирующей с тринитарным учением.
Св. Максим отвергает «объективное» богопознание, т. е. автономную, вне Откровения и божественной икономии, доказуемость существования Бога. Человеческое богопознание имеет своим содержанием только Бога в Его обращенности к творению[76]. В то же время св. Максим категорически возражал против сформулированного Пирром требования не переносить в икономию святоотеческие утверждения, касающиеся теологии. Сын остается в богословском единстве с Отцом, отвечал св. Максим[77]. Теология и икономия нераздельно связаны в ипостаси Сына: это фундамент всего мышления св. Максима. Воплощенное Слово Божие учит теологии. Этот факт – условие, делающее возможными медитацию и рефлексию над тринитарными и христологическими тайнами. Через Богочеловека, в Его любви и в любви к Нему, заново открывается подступ и к Отцу[78]. Структурирование познавательного пространства любовью и свободой не допускает в него метафизики, основанной на чистой необходимости, на процессах, являющих в себе безличную сущность[79]. В то же время феноменальная история видится св. Максимом лишь как завеса и проявитель ноуменального присутствия. Цель св. Максима заключалась в том, чтобы вывести на свет его формальную структуру, опираясь на точность мышления и на развитый вкус к геометрически четкой формулировке понятий[80].
Непознаваемость и познаваемость Божественности
Св. Максим Исповедник настаивал на том, что Божество и божественное в одном отношении познаваемо, а в другом непознаваемо. Непознаваемо то, что пребывает само по себе (κατ᾽ αὐτό), а познаваемо то, что имеется «около» него (περὶ αὐτόν)[81].
Между тварным и нетварным пролегает непреодолимое расстояние, и различие между ними бесконечно[82]. Поэтому о Боге можно знать, что Он есть (ὅτι ἐστι; κατ' αὐτὸ τὸ μόνον εἶναι – единственное само по себе бытие), но не что Он есть (τὸ τί ποτε εἶναι) по сущности или по ипостаси[83]. Бог превосходит любую умственную силу и энергию[84]. Сын познается по сущности только Отцом и Святым Духом[85]. Сущность и ипостаси непознаваемы и для людей, и для ангелов[86].
Следуя за каппадокийцами, св. Максим Исповедник утверждал, что невидимый в Своей сущности Бог становится видимым в Своих энергиях, т. е. в том, что пребывает «около» Его сущности. Единение человека с непознаваемым и не причаствуемым по сущности Богом делается возможным через божественную энергию и в ней[87]. Энергия является предметом богосозерцания для человека, причастного Богу по благодати[88]. Познающий способен высказывать свой опыт энергийной сферы Бога, не достигая Его сущности и не преступая границы между Творцом и творением. Такое познание есть познание Бога в Его отнесенности вовне, в Его отношении с миром, которое образует сферу икономии, а не теологии в собственном смысле. Здесь познается вечность, бесконечность, сила, благость, мудрость Бога и т. д., а также познается Бог как Творец, Промыслитель и Судия всего сущего[89]. О Боге Самом по Себе нет рационального познания и невозможны дискурсивные высказывания[90].
Теология и мудрость
Св. Максим Исповедник не различал теологию и философию в том смысле, какой характерен для нашего времени или для схоластики[91], а придерживался понятийного ряда, выстроенного в самые ранние столетия христианства.
Традиционно «теология» была для св. Максима самооткровением трансцендентной и абсолютно недоступной Троицы и в то же время Ее созерцанием в лучах исходящей от Нее славы, познание которой дается нам только как теологическая благодать (θεολογικὴ χάρις) и в которой мы становимся причастниками божественной жизни[92]. Теология дается человеку как невербальный и не подлежащий вербализации непосредственный авторитетный опыт (experientia) и непосредственная очевидность (evidentia); они не имеют своим источником никакого внешнего, тварного авторитета или инстанции и не обладают физическим, эмоциональным или интеллектуальным характером, а представляют собой приоритет «духовных чувств»[93]. Это мистический опыт. В таком смысле христианский богослов есть становящийся отпечаток боговидной печати (θεοειδοῦς τύπου τύπος)[94].
Познавательное измерение богословского опыта и его познавательное осуществление есть мудрость. Словом «мудрость» (σοφία) св. Максим обозначает, в первую очередь, божественную мудрость, которая направлена на творение и внутренне усваивается блаженно созерцающими согласно той мере, в какой каждый из них способен ее воспринять. С точки зрения определения икономический контекст «красоты мудрости» в этом мире, при нынешнем способе существования человеческой природы, подчеркивается через ее сопряжение с принципами промысла и суда Божия. Мудрец обладает мудростью как устойчивым внутренним расположением (ἕξις), при котором красота мудрости есть деятельное знание (γνῶσις ἔμπρακτος) и умудренная деятельность (πρᾶξις ἔνσοφος): здесь чувства и ум пребывают в совершенном единстве под влиянием Духа. Поэтому такой тип знания определяется также как чувственность (αἴσθησις) – но чувственность сверхчувственная, которая, в сущности, представляет собой непосредственное познание через простую интуицию (κατὰ ἁπλῆν προσβολήν)[95]. Нераздельное единство мудрого знания и деятельности производит специфичное для мудреца познание, которое св. Максим называет εἴδησις[96] – знание или познание через личный опыт (διὰ πείρας) и в опыте (πείρᾳ)[97].
Стремление к этой высшей форме человеческого еще в земной жизни есть норма, которую св. Максим считает фундаментальной не только для монашеского, но и вообще для любого христианского способа существования. В одном примечательном фрагменте он подчеркивает, что преодолевшие зло в себе, т. е. святые, чья жизнь – образец христианского существования, пребывают в этой жизни как чужеземцы (ξένους ἑαυτοῦ τοῦ βίου) и странники (παρεπιδήμους). Они соблюдают Божественный Закон, по природе вложенный в них, предпочитая вести жизнь, изначально подобающую разумному существу. По своей непритязательности и безмятежности жизнь эта подобна ангельской[98].
В другом фрагменте, рассматривая способы существования человеческой природы до и после греха, св. Максим размышляет о месте полезных искусств и рационального познания природных начал. В новом, сегодняшнем способе существования, замечает св. Максим, человеком движут три вещи: неразумные представления (περὶ φαντασίας ἀλόγους) – следствие заблуждений, вызванных ищущими наслаждения страстями; начала искусств, в которых человек упражняется в зависимости от обстоятельств и ради пользы (περὶ λόγους τεχνῶν ἐκ περιστάσεως διὰ τὴν χρείαν); естественные начала согласно закону естества, через научение (περὶ φυσικοὺς λόγους ἐκ τοῦ νόμου τῆς φύσεως διὰ μάθησιν). Очевидно, что ни один из этих мотивов, подчеркивает св. Максим, не двигал человеком до грехопадения – изначально (κατ' ἀρχήν) и необходимо (ἐξ ἀνάγκης). Для своего совершенства тот нуждался только в безмятежном пребывании возле Превосходящего его, т. е. возле Бога, что человеку и надлежало осуществить со всей силою любви.