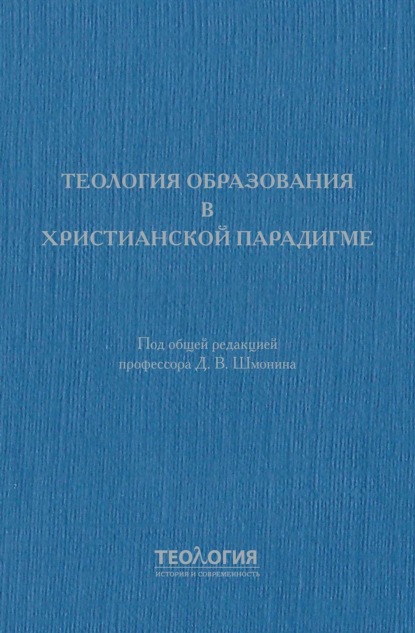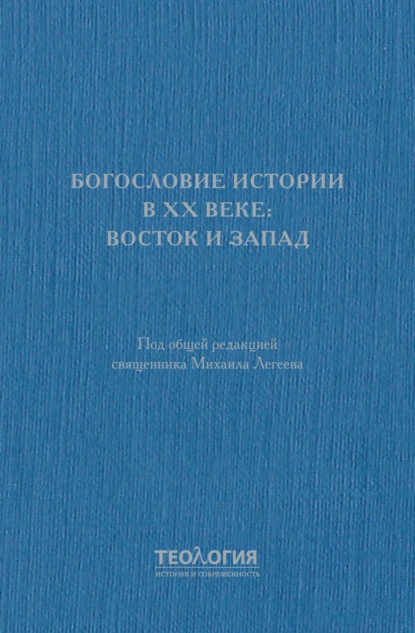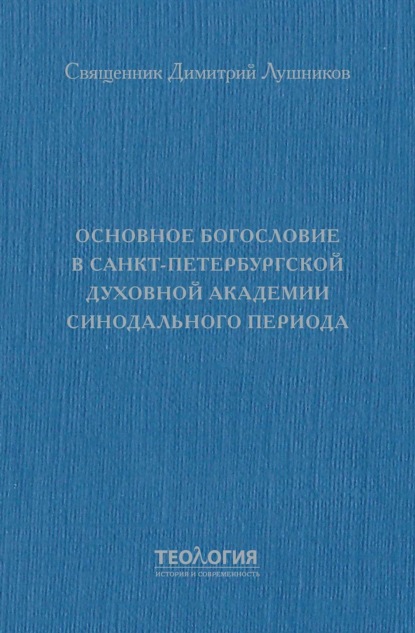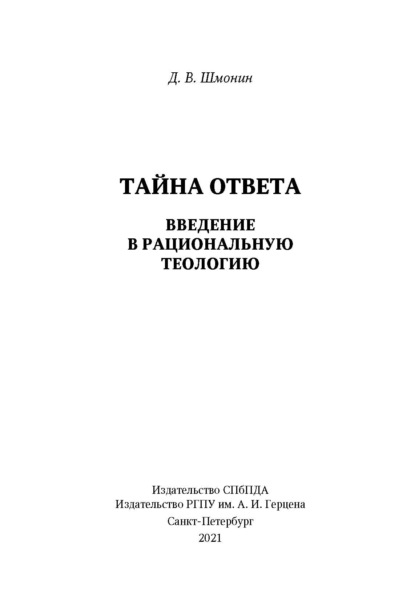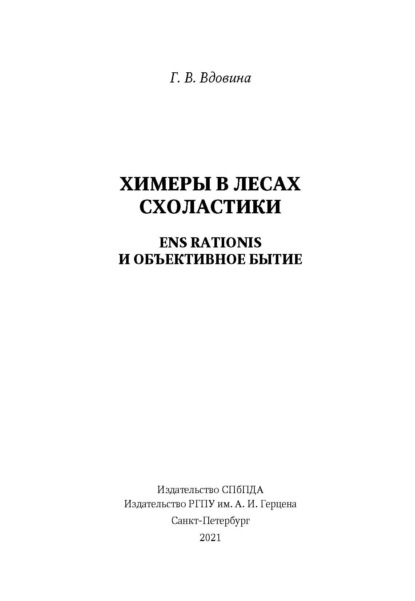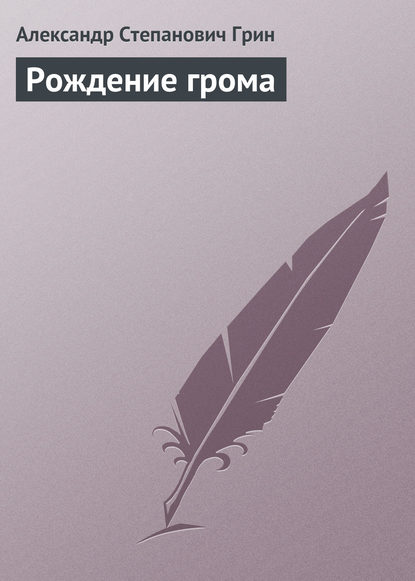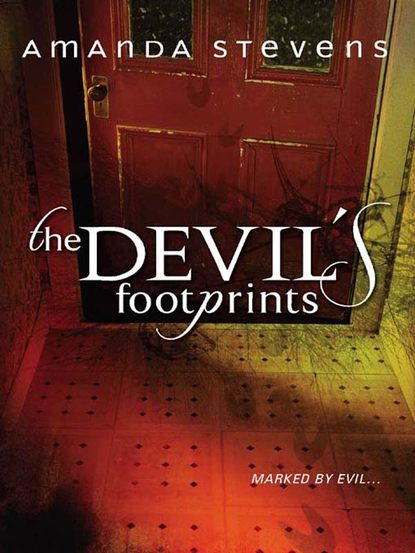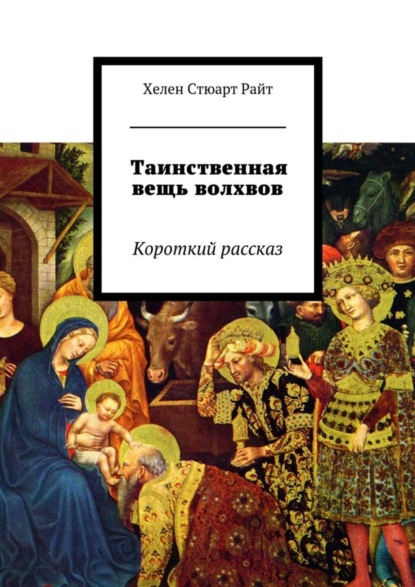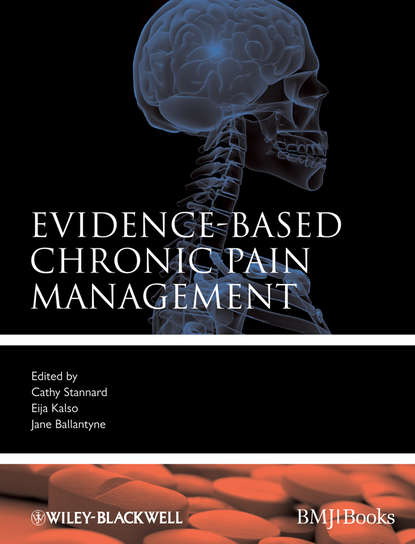Византийская философия. Четыре центра синтеза
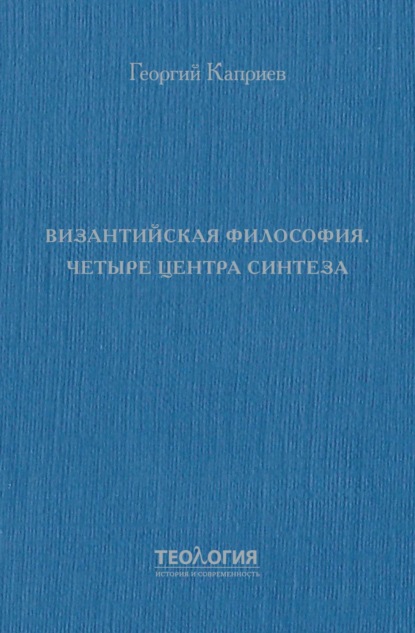
- -
- 100%
- +
Так как человек был бесстрастен по благодати, он не допускал никаких ошибок, проистекающих из страстных представлений и стремления к наслаждению. В райском способе существования познание совершалось не через «естественное созерцание» (περὶ τὴν φύσιν θεωρίας), т. е. не посредством способности естественного разума, познающего продолжительно и дискурсивно, а через непосредственное постижение истины. Между Богом и первым человеком не было ничего (οὐδὲν οὖν εἶχεν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος μεταξὺ Θεοῦ καὶ αὐτοῦ), что было бы положено как предмет научного познания (πρὸς εἴδησιν) и могло воспрепятствовать познанию силой любви родства (συγγένεια) человека с Богом. Так как в своем существовании человек ни в чем не нуждался, он был свободен от обусловленной обстоятельствами необходимости; ему не требовались искусства, возникшие ради пользы. Человек был «наг в простоте» (γυμνὸς τῇ ἁπλότητι), потому что был выше любого постижения согласно природе. Он вел жизнь безыскусную (ζωῇ τῇ ἀτέχνῳ), ибо был свободен от любой нужды в искусствах. Однако в силу собственного свободного выбора человек сегодня справедливо стоит ниже того, что́ он сообразно своему происхождению превосходил по природе[99].
Следует обратить внимание на то, что человек в догреховном способе существования не нуждался в познании явлений, берущем начало в чувствах и требующем работы разума. Параллельно этому комментируются и полезные, т. е. технические, искусства. На самом деле св. Максим их не осуждает (в отличие от неразумных представлений), но показывает их избыточность в первом способе существования человека, потому что тогда человек не имел никакой потребности в их продуктах, как не будет иметь ее в будущей жизни.
Как уже было отмечено, здесь св. Максим впервые подтверждает, что восхождение к Богу в земной жизни нуждается в прохождении через начала техники и связанные с нею виды деятельности[100], как и через познавательные процедуры, сопряженные с работой разума. Вместе с тем он утверждает тот взгляд, что дискурсивная деятельность разума и техника вкупе с соответствующим ручным трудом не являются конститутивным элементом святой жизни, а имеют скорее дополнительный характер. Эти способности приданы человеку в качестве компенсаторного механизма, чтобы он мог до некоторой степени восстановить утраченное непосредственное богопознание и жизнь вблизи Бога. Их надлежит считать сопровождающими духовное созерцание и оценивать их положительно только с точки зрения нынешнего способа существования человека.
Вот только в это существование вклинивается незнание (ἄγνοια). Св. Максим обрисовывает три основных типа незнания. Есть незнание, «не заслуживающее укора»: незнание того, кто и каков Бог. Такое незнание проистекает из самого устроения человека, из непреодолимой пропасти между нетварным и тварным. Другой позитивный тип незнания – «незнание» преходящих явлений в мире, относительно которых возникают страсти. Оно определяется как «спасительное». Но есть и отрицательное, бедственное незнание, состоящее в том, что творение отвращается от Бога и прилепляется к чувственному. Это незнание экзистенциально отделяет человека от Бога; как знание отождествляется с путем к Богу, так незнание есть удаление от Бога и путь в небытие. Вот почему св. Максим ставит рядом «воду знания» и «огонь обожения»[101].
Мудрость и философия
Именно в таком контексте св. Максим говорит не только о различии, но и о связи между мудростью и философией, недвусмысленно сопрягая их друг с другом. Относительно познания через творение он подчеркивает, что способов познания, вообще говоря, всего два: мудрость и любовь к мудрости (σοφία καὶ φιλοσοφία). Первая содержит в себе и принимает в себя всевозможные богоприличные и благочестивые способы познания, а также таинственные и естественные начала (λόγοι), охватывающие всё. Вторая же охватывает логосы нравов (ἔθος) и волевые условия познания (γνώμη), деятельность (πρᾶξις) и созерцание (θεωρία), добродетель (ἀρετή) и знание (γνῶσις) и устремляется как к своей причине к мудрости в едином, взаимно связывающем их родстве (οἰκειότης σχετική)[102].
Отсюда ясно различимо существенное место философии в сегодняшнем способе существования человека и ее связь с мудростью. Мудрость есть причина возникновения философии и одновременно ее цель: она стоит у начала зарождения философии и движет ею как целевая причина. Цель философии – в том, чтобы вылиться в мудрость, превратиться в мудрость. Относительная самостоятельность философии происходит именно из того, что в нынешнем способе существования человека богопознание неизбежно осуществляется посредством творения, посредством природных логосов. Их познание силой разума есть не что иное, как сфера философии. Именно ее необходимость в данном статусе человека отличает ее от всех прочих интеллектуальных и полезных искусств, цель которых состоит в удовлетворении потребностей и достижении пользы. И все это – следствия нужд, вызванных только неблагоприятными внешними обстоятельствами сегодняшнего человеческого существования.
Совершенно не случайно св. Максим, как, впрочем, и вся византийская традиция, включает в качестве существенного элемента в первую философию (в дисциплинарном смысле слова) еще и то, что мы сегодня назвали бы «спекулятивной», или «естественной», теологией. Первейшая задача такой теологии – систематизация мудрости с помощью инструментария логики и дискурсивного знания. Ее свидетельства должны стать общедоступными, их необходимо интегрировать в догматический дискурс и найти им место в фундаменте христианского учения.
Св. Максим при этом многократно подчеркивал ущербность вербально высказанных утверждений относительно тринитарной проблематики, относительно неизъяснимых и непостижимых для мысли божественных тайн. Несмотря на то, что такие высказывания следуют за Откровением и свидетельствами обладателей богословского опыта, они неизбежно порождаются силами разума и в значительной степени согласно его собственной мере. Поэтому св. Максим использует в таких случаях особое выражение – «κατ' ἔννοιαν» («сообразно мысли», или «по смыслу»), чтобы подчеркнуть, что словесные формулировки всегда неполноценны и могут дать лишь весьма приблизительное представление о божественной истине и реальности, без каких-либо притязаний на их адекватное выражение[103].
Когда в этом контексте выражают уверенность в том, что практическая философия в состоянии всецело очистить человеческую природу, так что ум – благодаря Духу Святому и тайноводственному знанию – обретет способность приготовиться к созерцанию Бога, св. Максим делает одну оговорку, существенную для философии и спекулятивной теологии. Он смиренно заявляет, что сам он не имеет благодати опыта и, стало быть, может толковать свидетельства святых только на пути философской рефлексии. Также и вопросы касательно богословских тем он трактует лишь предположительно, а не утвердительно, не с претензией на непременную истинность (στοχαστικῶς, ἀλλ' οὐκ ἀποφαντικῶς). Этот второй тип утвердительного свидетельства приличен лишь святым, которые обретают его через просветление, имеющее доказательную силу. Поэтому св. Максим Исповедник призывал к осторожности при работе с разумом, когда речь идет о размышлениях над высокими богословскими тайнами[104].
Только применительно к тринитарной проблематике, обсуждая отношение между Отцом и Сыном, св. Максим указывает на философскую специфику теологической дискуссии. Он подчеркивает, что вести ее продуктивно можно, лишь опираясь на крепко построенную силлогистику; она возводится из посылок, адекватно формулирующих данные Откровения и позволяющих составить корректные силлогизмы. В сфере дискурса, даже когда он относится к доступным разуму тайнам Троицы, существенным критерием, позволяющим верифицировать толкование принятого в Откровении, оказывается именно правильность и мудрость силлогистики. Ведь более чем очевидно, что спор с противниками христианства и его истин может быть эффективным лишь в силу убедительных рациональных аргументов. В согласии со всей традицией св. Максим подчеркивал полемическую и евангелизирующую силу философии, практикуемой христианами[105].
Понятно, что предмет спекулятивной теологии не исчерпывается тринитарной проблематикой, а включает еще творение, воплощение, спасение и все, с ними связанное. По этой причине богословское размышление не в состоянии отодвинуть от себя все временное и историчное. Отсюда происходит огромное множество линий соприкосновения, пограничных зон и общих территорий между спекулятивной теологией и философией в дисциплинарном смысле, доводящих в итоге до отождествления спекулятивной теологии с высшей частью первой философии, или «метафизики», как она именовалась в западной традиции.
Христианская философия
Когда речь идет о таким образом понятой философии, наивно думать, что ее могли бы представлять все конкретные, исторически заявившие о себе к тому времени учения или одно из них. Это в принципе исключено, потому что «нейтральная», т. е. беспредпосылочная, философия не существует, кроме как в старательно промытых или просто слабых умах. Любая серьезная философия, особенно притязающая быть метафизикой и, соответственно, старающаяся не быть абстрактным схематизмом, обязана рефлектировать над контекстом своих аргументов. Абсолютное знание (как это, впрочем, показывает и св. Максим Исповедник) не может быть непосредственной целью философии, потому что оно недоступно естественному человеческому разуму. Философия – не мудрость, а стремление к ней, свойственное conditio humana – человеческому состоянию и человеческим условиям[106]. Любая философия, независимо от того, рефлектирует ли она над этим или нет, строится на некой аксиоматической основе, которая в норме не подлежит эксплицитному анализу.
Св. Максим Исповедник не просто отдавал себе в этом отчет. Он находил философствование осмысленным только в его фундаментальной связи с такой системой. Именно поэтому он не примкнул ни к одному известному философскому течению и был, наверно, первым, кто эксплицитно сформулировал и мотивировал понятие «христианская философия», соответственно, «философия у христиан»[107], сохранившее свою валидность во всей византийской традиции.
Уже ясно, что св. Максим генетически связывал философию с мудростью, понятой как духовный опыт. В другом весьма поучительном месте он постулирует их необходимый синтез с верой, которая мыслится при этом их основанием (не случайно и саму веру он определяет как «истинное знание» – γνῶσις ἀληθής)[108]. Здесь он толкует тот факт, что канонических Евангелий имеется четыре, по аналогии с четырьмя элементами природы чувственного мира: землей, водой, воздухом и огнем. В связи с этим он говорит, далее, что четыре Евангелия символизируют, соответственно, веру и философию практическую, естественную и теологическую[109]. Речь о некой внутренней иерархии четырех элементов в действительности оправдана, однако при этом ни в коем случае нельзя забывать, что четыре элемента могут интерпретироваться как элементы космической природы, только когда они мыслятся в их нерасторжимом единстве и необходимом совместном действии. Отсутствие одного или нескольких элементов или пренебрежение ими делают бессмысленным фундамент физики. Точно так же, в силу аналогии, нужно утверждать связь между верой, практикой, естественным познанием и теологическим созерцанием. Обратное, согласно св. Максиму, подорвало и нарушило бы человеческое познание, а вследствие этого и человеческое существование как в его отдельных измерениях, так и в целом.
Св. Максим неоднократно говорит о «природном законе» в сфере познаваемого, определяя его как природную познавательную энергию, охватывающую совокупно действие ума, разума и чувственного восприятия, причем эта деятельность направляется и руководится умом. Такую познавательную энергию необходимо понимать как общую энергию трех познавательных сил; поэтому приобретаемое познание возвышается от отдельной твари до начал вещей и никоим образом не может функционировать помимо деятельности чувств и разума[110]. Следует заметить, что так понятое единство познавательной энергии выглядит именно таким образом только в сфере рационального познания. Говорить о познавательном единстве в сфере собственно ноэтического тоже допустимо, однако тогда остальные познавательные силы – чувственность и разум – радикально «снимаются» в уме.
Обобщая структуру естественного рационального человеческого познания, св. Максим указывает, что в его основе и начале находится чувственное познание, которое, однако, не может действовать самостоятельно и независимо, ибо тогда оно неизбежно подпадает под власть вожделения и гнева. Только в единстве со своим предводителем, разумом, чувства в состоянии верно свидетельствовать об отдельных вещах, о красоте и природе видимого творения. Чувственное познание не умаляется и не отвергается, а рассматривается как фундаментальная составная часть рационального познания. Со своей стороны, разум, благодаря свидетельству чувств, способности представления и своей собственной силе (τοῦ λόγου δύναμις), производит мысли, в коих схватывает виды и формальные образы (σχήματα), сводя их к многообразным началам. Разум – это естественное средоточие рационального познания.
Но чтобы работать правильно и не распыляться во множество, включая ошибочные направления, разум тоже действует не автономно, а как один из членов познавательной структуры. Автономизированный разум, разум в себе и для себя, своей основной позицией имеет сомнение, в том числе сомнение в Господе и Его воскресении. Так обстоит дело тогда, когда разум превращается в единственное мерило самоопределения. И наоборот, когда подлинным экзистенциальным центром человека считается Бог, то в разуме видят одну из душевных способностей, играющую существенную роль в антропологической целостности, а не исключительное и единственное мерило человека. Тогда разум действует конструктивно как в практике, так и в теории, при том, что его подлинным центром и основанием является Бог как Господь и Вседержитель[111].
Будучи по определению сложным, ибо дискурсивным, правильно расположенный разум находится под водительством ума и его простоты. В конечном счете, ум сводит множество видов и начал к началу всего, т. е. к божественному Логосу в его икономическом действии. Правда, это еще не то непосредственное познание, которое характерно для ума, обращенного к самой божественности, а лишь духовный космос в разуме (ὁ κατὰ διάνοιαν πνευματικὸς κόσμος)[112]: умопостигаемый космос, находящийся теперь именно в разуме – в естественном разуме, который, однако, правильно нацелен на истинное познание, хотя и знает о своей неспособности постигнуть саму истину[113]. Тем не менее, разум при всем том исполняет известное требование апостола Павла: через творение познавать Бога, вечную силу Его и Божество (Рим 1:20). Эта позиция апостола задает фундаментальный способ аргументации, через который легитимируется христианская философия.
Проблемную область, связанную с божественным домостроительством, икономией, где главное место занимает учение о воплощении Слова, св. Максим причислял к собственной сфере христианского познания, именуемой «философия». Понятно, что она оформляется κατὰ λόγον καὶ θεωρίαν (согласно разуму и созерцанию)[114] и, следовательно, имеет достаточно широкий набор компетенций[115]. Но при этом, со вниманием относясь к «внешней», языческой философии, активно привлекая аристотелевскую диалектику при систематизации догматов[116], св. Максим дистанцировался от метафизических позиций античности[117]. Сама понятийная база св. Максима восходит не к Платону и Аристотелю, а к христианским отцам[118].
Носителем, субъектом конституированного таким образом естественного человеческого познания служит ум, но ум философствующий (φιλοσοφώτατος νοῦς)[119]. Это ум, с любовью стремящийся к мудрости и одновременно имеющий гарантию своей правильности именно в ней. Будучи любовью к мудрости, философия, в конечном счете, есть смиренная, ибо опосредованная, любовь к Богу; она представляет собой отчетливое выражение стремления человека к Самому Богу[120]. Поэтому св. Максим описывает свой метод как синхронное действие естественного разума, Писания и отеческого Предания[121] и подчеркивает первостепенную значимость «соборов, отцов, Писания». В решающие моменты он обращается напрямую к традиции[122].
Св. Максим Исповедник может считаться настоящим отцом византийской философии, мыслящей себя именно христианской. Интерпретировать ее нужно, принимая во внимание ее собственные предпосылки и самоопределения, но вместе с тем рассматривая ее сквозь призму универсальных требований, применяемых при качественной оценке любой философии.
Познавательные методы (катафатика и апофатика)
У св. Максима Исповедника не было сомнения в том, что вера есть «о́рган» действительного восприятия и познания истины. Все, что превышает законы природы и естественные познания человека, усваивается через веру. В то же время вера не является противоположностью познания, γνῶσις[123]. Между ними нет непроводимости или непереводимости. Сама вера определялась как «истинное познание (γνῶσις ἀληθής) из непроизводных начал»[124]. У св. Максима не существует текстов эзотерического характера[125].
Другое дело, что он выступал за всецело смысловое толкование священных текстов, за отступление от буквы и распознавание смыслов, логосов Писания, в которых, собственно, и воплощен Сам Логос. Слова Св. Писания суть «одежды», а мысли – «плоть» Слова. Одежды определяют внешний вид (σχήματα), а плоть представляет собой логосы вещей, одновременно скрывающие и являющие сам Логос[126]. Симптоматичным образом св. Максим, помимо этого, настаивал на том, что принимающие за исходный пункт божественные слова (θεολόγοι), катафатически (утвердительно) высказанные с оглядкой на видимое, делают слово плотью (σάρκα), ибо опознают в Боге причину всего; те же, кто апофатически (отрицательно) принимает за исходный пункт божественные слова, отделенные от видимого, делают слово духом (πνεῦμα). Они рассматривают слова так, как они первоначально пребывали в Боге и у Бога, и таким образом познают сверхпознаваемое, исходя из недоступного познанию[127]. Очевидно, здесь речь идет об экзегезе, о способе прочтения слов Св. Писания, где первенство отдается духовному прочтению. В то же время специализированное употребление слов «катафатический» и «апофатический» ведет к неясности при интерпретации познавательных методов, применявшихся св. Максимом Исповедником.
В том же экзегетическом контексте он говорит, что логосы чувственных вещей суть плоть Логоса, логосы ноэтических вещей – кровь Логоса, а логосы божественности – кости Логоса, недоступные схватыванию в понятии[128]. Первые два вида логосов, данные в домостроительном Откровении, соотносятся, очевидно, со сферой феноменального и понятийного. Феномены и их познание, нацеленное на силу и волю Бога, связаны с практикой и теорией, но не с теологией[129]. Речь идет об интеллектуальном понимании Бога в Его отнесенности к миру и о возможности такого понимания, при котором основными дискурсивными техниками будут техники утверждения и отрицания, катафатики и апофатики.
Взаимная дополнительность и связь позитивного и негативного именования Бога проистекают из сфер их действия. Катафатические высказывания отражают самосвидетельства конечного, указующего на Бесконечное как на свою причину и цель. Бесконечное же не только превышает все конечное, но и всецело отлично от него, что фиксируется апофатическими предикатами. Любое утверждение о Творце может быть прочитано как отрицание относительно творения, и наоборот. Именно в этом смысле то, что́ есть творение, то не есть Бог[130]. В такой перспективе предпочтителен апофатический способ высказывания о божественном. Он не только выполняет реальную дидактическую функцию, но и действительно превышает катафатический способ – хотя бы потому, что задает коррективы и пределы философской терминологии, меру ее завершенности[131].
В то же время св. Максим Исповедник неоднократно обращал внимание на то, что в качестве познавательных методов катафатика и апофатика не противоречат друг другу, а идут рука об руку; что это явления однопорядковые при благочестивом созерцании логосов сущих вещей[132]. Они представляют собой скорее чередующиеся познавательные этапы, или фазы, и только в их взаимной диалектике удается избежать агностицизма в отношении божественного[133]. В одном пространном пассаже св. Максим терпеливо разъясняет, что применительно к Богу отрицания и утверждения не противостоят друг другу, а связаны между собой, переходят друг в друга и друг друга подтверждают. Отрицания обозначают божественное не как то, что не есть, а как то, что не есть вот это или то, и тем самым объединяются с утверждениями, разъясняющими, что это за вот это или то, каковыми не является это «не-сущее». С другой стороны, утверждения выражают только сам факт, что оно есть, а не что именно оно есть. Это роднит их с отрицаниями, указывающими, что это «сущее» не есть. В сравнении между собой они пребывают в антитетическом противоречии, однако в отношении к Богу они свидетельствуют о своей взаимопринадлежности как полюсы, находящие прибежище друг в друге[134]. Апофатические и катафатические предикации – это соответствующие результаты двух рационально-дискурсивных методов, которые выражаются в итоге одним и тем же образом и постоянно сообразуются друг с другом[135].
В этом вопросе св. Максима больше всего интересует не позитивный или негативный способы высказывания, а позиция, утверждающая наличие бездны между Богом и всем тварным. Метод отрицания не позволяет преодолеть эту бездну. Он не способен привести ни к каким заключениям о нетварной природе, но лишь подтверждает ее абсолютное незнание и указывает на отсутствие какого-либо общего логоса, или принципа, для тварного и нетварного. Диалектическое равновесие между двумя техниками дискурсивного богопознания свидетельствует главным образом об ограниченности человеческого познания Бога[136]. Называть Бога бытием или небытием равно допустимо и недопустимо, потому что Бог превыше любого суждения, как утвердительного, как и отрицательного. Он не связан ни с чем, что высказывается или может быть высказано, как и ни с чем, что не высказывается и не может быть высказано[137]. По Своей природе Бог превышает любое знание[138].
О нетварной природе нельзя сделать никаких умозаключений, она абсолютно непостижима и неименуема, и тайна Троицы недоступна точно так же, как и Ее сущность[139]. Св. Максим Исповедник противопоставляет дискурсивное мышление, понятийное именование Бога в опыте и восприятие. Мышление всегда присутствует в отношении (σχέσις), дистанцированном от своего предмета; опыт наличествует, когда все понятия достигают своего предела; восприятие же есть сама причастность к «предмету»; она имеется тогда, когда прекращается всякое мышление. Здесь речь идет о действительной и действенной причастности (μέθεξις κατ' ἐνεργείαν), об опыте в причастности[140]. Опыт – это сверхъестественное познание, чуждое субъкт-объектных отношений, на которых основано рациональное познание. Опыт есть мистическое единение[141].
В одном месте св. Максим заявляет, что в созерцании Логоса, осуществляемом трансцендентной апофатической теологией, должно умолкнуть всякое мышление и говорение. Чуть ниже он добавляет, что, согласно высшей и негативной теологии Логоса, созерцаемой в ее трансцендентности, Логос не может быть ни высказан или помыслен, ни познан через сопутствующее познание вещей, ибо Он сверхсущностен и не причастен ничему[142]. Нужно сразу же заметить, что здесь слово «апофатический» используется в совсем ином контексте и требует полной смены точки зрения. Здесь речь идет о собственной теологии Логоса, относительно Которого человеку никоим образом нельзя обрести интеллектуального познания – ни дискурсивного, ни даже недискурсивного. Речь идет о теологии, которая всегда пребывает в Боге и происходит из Него. Это не свойственное человеку логическое или ноэтическое постижение, а само-изречение Божие, Его собственное и сущностное самовыражение. «Апофаза» понимается здесь в значении «отказ, отвержение». Трансцендентная апофатическя теология Логоса есть не что иное, как самовыражение Бога по сущности, доступ к Которому категорически воспрещен уму человека.
Такова перспектива, которая сохраняется и в другом, часто комментируемом, но недопонятом месте[143]. Здесь св. Максим говорит о великой божественной мистерии, открывающейся нам в Преображении Господнем. «Божественная драматургия Преображения» определяет два главных модуса теологии. Первый осуществляется посредством уникальной и тотальной апофазы, где Бог первичен, прост и не соотнесен ни с какой причинностью. Он являет Себя здесь таким, каков Он есть по Своей собственной истине: как Единица и Троица. В этом модусе, выражающем внутритроичную перспективу, божественное величие сверхневыразимо, сверхнепознаваемо и прославляется в ἀφασία – онемении, оцепенении, бессловесности. Такой модус не дает творениям ни малейшего следа, ни даже намека, который мог бы породить у них хоть какое-то понимание. Другой модус – составной (σύνθετον). В нем Бог дает созерцать Себя как причину Своих дел, и поэтому такой модус есть самоизречение чрез катафазу, т. е. самоизречение, допускающее познание, а не отказывающее в нем. Божественное самовыражение в этом модусе может познаваться через логосы вещей. Такое познание есть познание «пребывающего возле Бога», божественных энергий, которые полноценно постигаются лишь в причастности к ним[144].