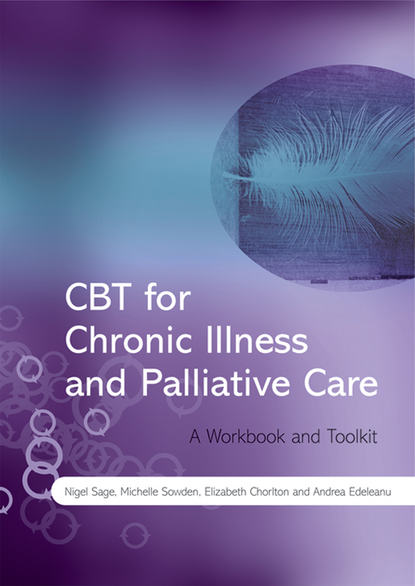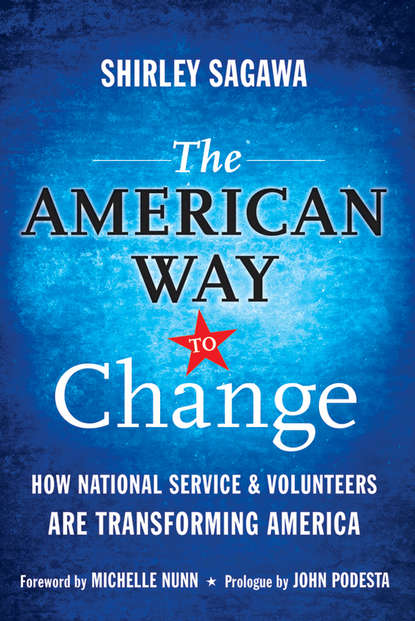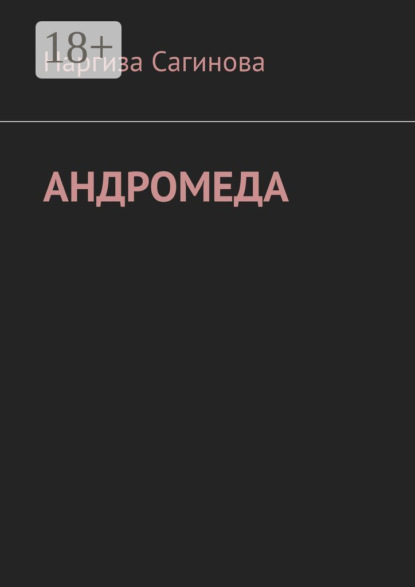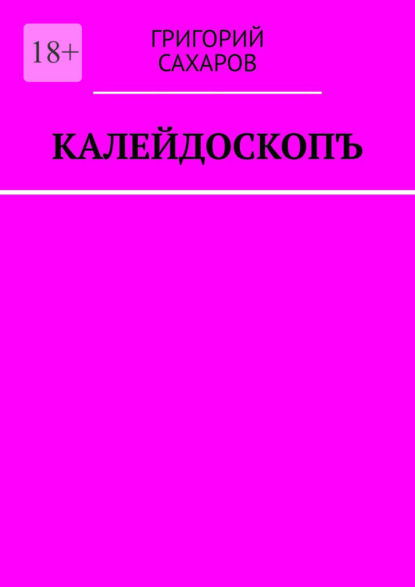- -
- 100%
- +

В голове мотыльком
стучится воспоминание,
но не может пробиться.
Юрий Каракур. «Фарфор»
Слишком больно я молчала,
Больше не могу.
М. Петровых
Мне не забыть день на излете апреля в Ростове. Ожидался освежающий дождь – вдруг собралась гроза.
Я ехала из своего районного городка в областной центр, чтобы встретиться с сыном.
После года с прогремевшим февралем и повергшим в отчаяние сентябрем я настояла на обязательных семейных встречах и, естественно, дорожила ими. Потребность в них для меня становилась только острее. И почему-то невольно вспоминалась сцена из шолоховского рассказа «Судьба человека», где главный герой сожалел, что перед отправкой на фронт оттолкнул причитающую жену, гневно осадив её, мол, нечего заранее хоронить солдата. Да только он вернулся, а семья погибла: немецкая бомба упала на их хату.
Когда ты живешь в приграничной с боевыми действиями области, когда над головой гудят вовсе не кукурузники, то можно ли поставить хоть сколько-нибудь на собственную жизнь? Я же волновалась за будущее единственного сына, не могла спать по ночам. И чтобы поймать своего двадцативосьмилетнего ребенка между двумя поездами (едет от невесты, а в ночь ему на тот, что увезет на работу), подскочишь как миленькая, несмотря на бессонную ночь (а они участились) и погодный прогноз, обещающий дождь. Я представляла столик у окна кафе и дождь за стеклом, отсекающий суету города, до которой тебе нет дела, пока ты исключение из неё, пока за поглощением, например, пиццы говоришь о незначительном: о спасенном коте от ополчившихся на него собак, о вчерашнем желто-оранжевом закате – и рассматриваешь запечатленное на фотографиях.
Сын давно не мальчик, его сепарация – позади, как позади учеба в университете, бакалавриат, магистратура, военная кафедра. И после шести лет, мы получили «не мальчика, но мужа», который стал вполне самостоятельным человеком. Впечатлившись личностью предпринимателя, наладившего бизнес в столичном регионе, сын устроился к нему и работает вахтовым методом: месяц проводит в Подмосковье, а месяц – дома.
Мы не договорились с сыном о конкретном месте встречи, но я размечталась о том кафе, где из общего зала к одному-единственному столику на втором этаже вела отдельная лестница. С этим кафе познакомил меня сын: мы приехали специально сразу после открытия, чтобы занять тот уголок. Окно выходило на аллею и создавался эффект небольшого парения над улицей, где рядом от тебя верхушки деревьев и небо. Мы были тогда вдвоем с сыном.
Звонок от его отца, моего бывшего, прервал мои мечтания.
– Мы едем в К. Ты с нами?
Получается, он решил увезти сына похвастаться перед ним купленным две недели назад на берегу Таганрогского залива домом? Утвердительность вопроса как чего-то, не требующего согласия с моей стороны, задела.
До сегодняшнего дня мы втроем встретились пару раз. Когда расписание у всех вразнобой, почему бы час-другой не посидеть вместе. Хотя наши отношения с бывшим мужем складывались не особенно и случались вспышки взаимного недовольства, но рядом с сыном мы избегали спорных, острых тем. Однажды, когда у меня самой между поездом и автобусом времени оставалось в обрез, было приятно, что мужчины приехали с другого конца города в привокзальное кафе. Худой мир лучше доброй ссоры, так почему бы не следовать народной мудрости.
Сейчас я только и нашлась ответить, что поездка в К. никак не входила в планы. Попросила не уезжать из города, дождаться меня. Звонить сыну и уточнять, почему не предупредил меня, не стала: он ещё в «Ласточке». Решил пожертвовать нашей встречей или рассчитывал, что я подстроюсь под них?
Отключившись, поняла, что слишком много за последнее время по отношению к бывшему скопилось раздражения. Словно пресловутая капля переполнила огромную бочку – буря в душе поднялась мгновенно.
Сейчас он небрежно спросил, не поеду ли с ними, но мой ответ ему был не нужен. Он увозил сына так же легко, как много лет назад убедил десятилетнего мальчика, что мама уходит от них, а не от мужа, и выиграл суд по определению места жительства ребенка, потому что уверил: «нас, сын, нас с тобою бросает». Умолчал, конечно же, о причинах моего решения. А спустя год, после моего переезда из Норильска на Юг, долго, не заботясь о том, что сын всё слышит, культивировал это убеждение рычанием в телефонную трубку: «Не звони сюда! Мы проживем без тебя!». Разве те фразы отца, звучащие рядом с ребёнком, возможно сгладить материнскими словами, звучащими издалека?
Только бы не плакать. Только бы не плакать! Но слезы непроизвольно скатывались, и я смахивала их. О чем они? Неужели жалость к себе? А я хочу быть, когда встретимся, такой, чтоб ни слезинки. Спасение в дыхании: вдохнула медленно, расправила лёгкие, почувствовала их толчок в ребра, выпустила воздух не спеша – раз, два, три, четыре. Цикл, другой, ещё, ещё!
Всколыхнулось всё. Поразительное свойство памяти – спрятать глубоко-глубоко в недра, а потом вдруг выдать на-гора то, что казалось погребенным под толстым-толстым слоем после разговоров с подругами, тягостных объяснений с матерью, уже неисчислимых сессий с психологами. Всколыхнулось так, словно не было восьми лет войны и десяти относительного мира в борьбе за единственного сына, который оказался лишь затянувшимся затишьем. Теперь заново на нитку нанизывала одно за другим неприятные, болезненные воспоминания.
Вспомнились два последних года нашего брака, самых напряжённых.
Сам развод не скажу, что случился внезапно, это было лишь вопросом времени. Но тогда коса нашла на камень – наш брак не просто затрещал по швам, а рухнул, как дом под ударом шар-бабы.
***
Мне немного за тридцать, но искра из жизни уже исчезла. Жизнь предсказуема и обыденна, как у всех – работа-дом. Работа – в школе, а это значит – головы не оторвать от бесконечной проверки тетрадей и планов к урокам (требования жесткие, фраза «кому не нравится – никого не держат» на планерках звучала часто) дома – семья: муж и сын. Быт организован от выходных до выходных. Неделю отработали – в субботу уборка готовка, стирка, домашка сына. Я на кухне, а муж помогает: за уборку возьмется, к стиралке подскочит. Она не автомат и даже не полуавтомат – пластмассовое корыто с мотором, поэтому отжимать приходится вручную – на мокрые пододеяльники и простыни у него силы больше. В воскресенье для меня подготовка к рабочей неделе: снова тетради и планы. Из развлечений: редкие походы семьей в кино, иногда мы в гости, иногда – к нам. Сквозь рутину повседневности просился сюжет, возникали мысли о книге, но я с досадой отмахивалась от творчества – некогда.
Как тут не повестись на объявление в рекламной газете, которое, как увидела, словно всю жизнь ждала. Объявление приглашало на тренинг «Танец жизни». Тогда тренинги были в новинку, особенно в Норильске, оторванном самолётным сообщением и от столицы, и от краевого центра. Интрига, любопытство к новому, необычному и фраза, что танцевальная подготовка и возраст не имеют значения, сделали своё дело.
Танцы… Это была мечта, казалось, неосуществимая. Нет, не то чтобы я не выходила на танцпол на школьных вечерах и дискотеках, но хотелось ощущения физической гармонии и плавности движения, гибкости и послушного тебе тела, управляемого тобой, а не напоминающего вечно о твоем несовершенстве. Хотелось преодолеть то, по поводу чего был пунктик. Серьёзный пунктик! Из того разряда, что когда что-то тебе важно и при этом тошно от давности такой занозы внутри, то в горле всегда спазм. Сказать элементарные слова невероятно трудно. Хочется рассчитывать на то самое со-чувствие, когда не надо слов, иначе с трудом подобранные, они лишь годны обессмыслить суть. Сердечное объятие – лучший знак для ободрения и поддержки.
Тренинг обещал невозможное. И я поверила, потому что тренером выступала местная, но титулованная звезда – мастер международного класса. Их имена с мужем, партнером по бальным танцам, мелькали в норильской культурной хронике постоянно. По телефону меня заинтриговали еще больше, сказали, что внутренняя свобода начинается со свободы тела. Слова прозвучали сенсационно для меня: мои когда-то неясные мечты уложились в лаконичную формулу. Всего четыре занятия – и вы совсем другая. Упустить такой шанс я не могла.
И вот я в зале. Группа немаленькая, человек 20. Светлана, так звали тренера, арендовала малый зал ДК «Норникеля», с зеркалами во всю стену, смотреть в которые на себя было страшно. К счастью, делать это тренер настоятельно не рекомендовала. О танце жизни, или по-другому тотальном танце, говорила Светлана так азартно, так интригующе, что нас охватило нетерпение, с каким дети ждут заказанного подарка от Деда Мороза. А говорила она, что тело – колодец, который мы забросали камнями: стрессами, обидами, страхами, другими негативными эмоциями. Мы забыли прекрасную историю тела, живя головой, а не душой и сердцем, устроили завалы там, где бил живой родник. И тотальный танец жизни поможет расчистить эти завалы, выразить заглохшие эмоции и чувства. Станцевать свою жизнь и вновь обрести способность быть хозяином своего тела и эмоций прозвучало очень заманчиво.
Чтобы свой неповторимый танец случился, к нему нужно подойти подготовленным, поэтому весь тренинг был рассчитан на четыре занятия в течение недели: два подготовительных, третье – сам тотальный танец, а затем – выпускной.
Тренинг Светлана проводила впервые. Я была уверена, что мы увидим там и её мужа, но тренинг она вела одна. Выяснилось, что звездная пара Норильска развелась. Для меня это стало новостью. Слово «развод» приводило меня в ужас, ведь я, как и многие, мечтала замуж выйти один раз и на всю жизнь, а она так просто, с улыбкой говорила о разводе как закономерном этапе отношений между людьми, которые с какого-то момента (с какого? чуть не слетел с языка вопрос) стали по-разному смотреть на жизнь и почувствовали себя чужими друг другу. Кажется, тренинг стал одной из причин их развода: Светлану давно уже захватила идея спонтанного танца (а её муж ни о чем не хотел слышать, кроме как о победах на конкурсах и фестивалях. «У танцоров своё выгорание и рутина!» – пояснила Света. Она прошла подготовку у мастера танцевально-двигательной терапии и привезла свой тренинг в Норильск.
Ах, что это были за вечера! Мы узнали о пяти ритмах Габриэлы Рот. В первом ритме «Поток» мы учились быть текучими, мягкими, округлыми, во втором (он назывался стаккато) – чёткими и осваивали резкие, энергичные движения с острыми углами. Погрузившись в третий ритм «Хаос», мы старались отключить голову и следовать власти тела, чтобы найти форму для творческого воплощения своего «Я», этот ритм сменился лиричным со спокойными и медленными, тонкими и изящными движениями («Это про наслаждение собой и своим телом», – доносился через музыку голос тренера). Пятый ритм «Покой» оказался самым необычным. Надо было остановить движение и продолжить танец внутри себя. Я, как и другие участники, открывала тело, а оно удивляло открытиями меня.
Мы очень ждали третьей встречи – дня, когда должен был состояться «тотальный танец».
Как я летела из Талнаха1 в Норильск в предвкушении неизведанного! День был выходной. Начало тренер назначила на 12:00. Мы знали, что танец займёт много времени, но мы и предположить не могли, что разойдемся только под утро воскресенья.
Перед началом главной практики Светлана предупредила:
– Все серьезно. Вот как раз после состояния «до предела» и можно войти в свой танец. Тоталить так тоталить.
Мы посмеялись, согласившись танцевать до упаду.
Светлана рассказала, что тотальный танец должен состояться у каждого участника, и вот как мы это поймём. Он выходит в центр круга и танцует там до момента, пока стоящие в кругу все до единого не поднимут руки. Это будет знаком: мы тебе верим, у тебя получилось. И естественно, стоящие вокруг не просто смотрят, а помогают – тоже двигаются вместе с ним, вдохновляя стоящего в кругу. Мы вошли в практику. Бывало, что кому-то казалось, что тотальный танец у центрального участника случился, и из круга взлетали руки, а кто-то считал, что танцующий в центре выложился не до конца, сделал ещё не всё, на что он способен. Мы поглядывали на реакцию Светланы. Она танцевала вместе с нами и подавала знак, не позволяя никому, ни в кругу, не в центре, слукавить или сдаться усталости. И человек продолжал, не покидал центра, пока руки у всех не взлетали над головой, а потом раздавались аплодисменты.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Талнах во время описываемых событий был самостоятельной административной единицей. Сейчас входит в состав Норильска, считается его районом.