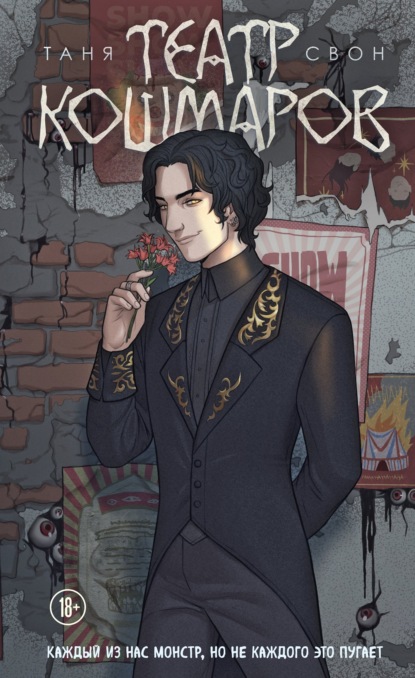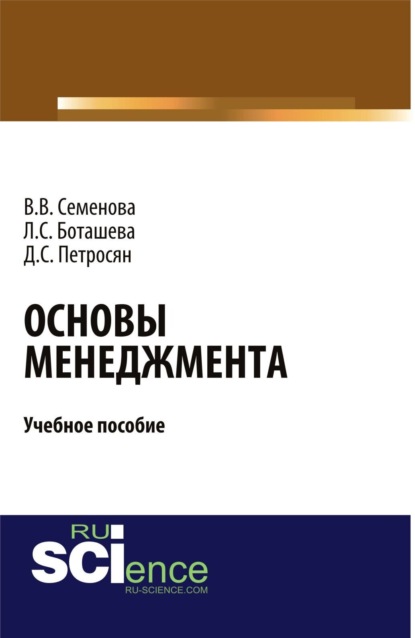Хомо Комментикус

- -
- 100%
- +
Неуверенно, шаг за шагом, он подошел ближе. Протянул руку и осторожно коснулся нарисованного широкого листа. Пальцы уперлись в абсолютно гладкую, прохладную, твердую поверхность. Стекло. Он провел по нему ладонью, чувствуя под подушечками пальцев лишь безжизненную гладь, в то время как его глаза видели фактурную зелень. Этот диссонанс был настолько сильным, что он отдернул руку, как от огня.
Разочарование и недоумение заставили его развернуться. И тогда он увидел вторую стену.
Она тоже была стеклянной, но не показывала иллюзию. Она была абсолютно прозрачной. И за ней стояли они. Две человеческие фигуры. Тот, в темной одежде, что был в зоопарке, и его спутница. Они просто стояли и смотрели на него. Без криков, без смеха, без протянутой еды. Их взгляды были внимательными и спокойными.
За их спинами он видел продолжение этого странного, стерильного мира – еще одно помещение с непонятными блестящими предметами.
Цезарь замер, глядя на них. Расстояние между ними было всего несколько метров, но их разделяла невидимая преграда. Он смотрел прямо в глаза человеку в черном. В его собственных глазах, отражавшихся в стекле, смешалось все: остатки страха после перевозки, ошеломление от нового мира, глубокое недоумение. Но сильнее всего было любопытство. Всепоглощающий, первобытный интерес исследователя, столкнувшегося с необъяснимым феноменом.
За стеклом Анна нервно сжала руки.
– Он напуган, Арсений Павлович, – прошептала она.
– Он дезориентирован, – тихо поправил Лосев, не отрывая взгляда от шимпанзе. Его голос был спокоен, в нем слышалось глубокое удовлетворение, как у художника, только что получившего идеальный холст. – Это пройдет. Его нейронные цепи сейчас перегружены от когнитивного диссонанса. Старые паттерны поведения разрушаются, а новые еще не сформированы. Сейчас его мозг – это именно то, что нам нужно. Чистый лист. И мы напишем на нем шедевр.
Взгляд Цезаря и взгляд Лосева встретились через идеально прозрачную, непреодолимую стену. Один – полный вопросов, пытающийся понять законы этого нового, невозможного мира. Другой – полный ответов, видящий в живом существе лишь безупречный биологический материал, готовый к трансформации.
Сырье было доставлено в лабораторию. Идеальные условия для начала эксперимента были созданы. Великая работа могла начинаться.
Глава 2: Операция
Тишина.
Она была не такой, как в гостиной Лосева, наполненной дыханием скрытой техники и шепотом виниловой пластинки. И не такой, как в стерильной пустоте вивария. Это была операционная тишина – густая, звенящая, наполненная концентрацией и предчувствием.
Пространство было ослепительно белым. Стены, пол и потолок перетекали друг в друга без единого шва, образуя гладкий, монолитный кокон. Источник света был невидим, он исходил от самих поверхностей, создавая ровное, безжалостное, безтенное освещение, в котором любая пылинка, любое несовершенство становились бы невыносимо заметными. Воздух, пропущенный через бесчисленные фильтры, пах стерилизатором и озоном – запах молнии, запертой в банке.
В центре этого белого вакуума возвышался операционный стол, больше похожий на футуристическую капсулу или ложе для анабиоза. На нем, укрытое тонким серебристым термоодеялом, лежало тело Цезаря. Он был без сознания. К его обритой голове и мощному торсу были аккуратно подключены десятки датчиков, тонкие провода от которых, словно нервные волокна, уходили прямо в стены, сливаясь с ними.
По обе стороны от стола застыли две фигуры, облаченные в одинаковые синие хирургические костюмы. Маски скрывали их лица, оставляя открытыми только глаза.
Глаза Арсения Лосева были спокойны и абсолютно сфокусированы. В них не было ни тени сомнения, ни капли эмоций. Это был взгляд человека, достигшего кульминации дела всей своей жизни. Он двигался плавно, без суеты, проверяя положение инструментов на парящем рядом лотке, – скорее пианист, настраивающийся перед исполнением сложнейшего концерта, чем хирург.
Глаза Анны, напротив, были напряжены и широко раскрыты. Она дышала ровно и глубоко, как ее учили, но в ее взгляде, устремленном на мониторы, читалась едва сдерживаемая тревога. Ее движения были такими же выверенными и точными, как у Лосева, но в них чувствовалась нервная энергия, выдававшая ее внутреннее состояние.
Единственными звуками в этой абсолютной тишине были размеренное, методичное пиканье кардиомонитора, отмеряющего удары сердца Цезаря, и тихий, ровный гул системы вентиляции, поддерживающей идеальные параметры среды. На белой стене напротив них висели в воздухе несколько голографических дисплеев, показывающих жизненные показатели пациента в виде спокойных, текучих зеленых и синих графиков. Пульс, давление, сатурация, мозговая активность – все было в норме, все под контролем.
Лосев поднял глаза от лотка с инструментами и посмотрел на мониторы.
– Статус? – его голос, приглушенный маской, прозвучал тихо, но отчетливо.
– Глубина наркоза – стабильная. Все показатели в пределах нормы. Альфа- и бета-ритмы подавлены, – ответила Анна, не отрывая взгляда от графиков. Ее голос был ровным, отработанным, но Лосев уловил в нем едва заметную дрожь.
– Хорошо, – сказал он. – Начинаем.
Он протянул руку. Его жест был командой.
– Нейрозонд.
Анна с безупречной точностью взяла с лотка длинный, тонкий, похожий на стилет инструмент и вложила его в ладонь Лосева. Он не смотрел на нее, его взгляд был прикован к голове Цезаря.
Его руки двинулись с невероятной, почти нечеловеческой точностью. Не было ни разговоров, ни объяснений. Только короткие, отрывистые фразы, ставшие частью ритуала, который они репетировали сотни раз в симуляции.
– Активирую доступ.
– Давление в норме.
– Синхронизация с микроманипулятором.
– Есть синхронизация.
– Подаю стабилизатор в основной канал.
– Поток стабилен. Мониторю распределение.
Это был не диалог двух людей. Это была сложная хореография, где каждое слово и движение были частью единого, необратимого процесса. Они были не просто учеными. В этот момент они были жрецами, совершающими таинство. Точка невозврата была пройдена.
***
Тишину белого кокона нарушил едва слышный шелест.
Над операционным столом, из ниши в потолке, беззвучно развернулся роботизированный манипулятор. Это была сложнейшая конструкция из полированного металла и темного композита, похожая на лапу гигантского, неземного насекомого. Десятки сочленений, приводов и сенсоров. Его движения были лишены малейшего намека на механическую резкость; он двигался с нечеловеческой, жутковатой плавностью и точностью, словно живое существо, подчиняющееся невидимым командам.
Лосев и Анна отступили от операционного стола к стене, где из белой поверхности выдвинулся пульт управления. Они замерли перед ним, их руки в синих перчатках парили над сенсорными панелями, не касаясь их, готовые в любой момент скорректировать процесс. Их внимание теперь было полностью приковано к главному голографическому дисплею.
На нем, в огромном увеличении, парило трехмерное, полупрозрачное изображение мозга Цезаря. Оно медленно вращалось в пространстве, живое, пульсирующее в такт его сердцу. Разные области подсвечивались разными цветами, демонстрируя сложную карту нейронных связей. Рядом с изображением мозга непрерывным потоком бежали вверх столбцы данных: биохимия, электрическая активность, строчки кода.
Кончик манипулятора, увенчанный микроскопической иглой, вошел в поле зрения голограммы, такой же увеличенный до гигантских размеров. Он двигался медленно, с выверенной до микрона аккуратностью, огибая жизненно важные центры, прокладывая себе путь сквозь плотное сплетение нейронов.
Пиканье кардиомонитора оставалось ровным и спокойным.
На увеличенном изображении было видно, как игла достигла намеченной цели – небольшого участка в префронтальной коре. Она замерла на долю секунды. Затем из кончика иглы плавно высвободился крошечный объект, размером не больше рисового зернышка, мерцающий тусклым металлическим светом. Нейрочип. Он занял свое место в ткани мозга, и игла так же медленно и аккуратно начала свой обратный путь.
Никто не произносил ни слова. Лосев и Анна, затаив дыхание, наблюдали за показателями на экранах. Их собственные отражения в глянцевых поверхностях пульта казались призрачными и несущественными на фоне происходящего технологического таинства.
Игла полностью покинула мозг. Манипулятор так же плавно и бесшумно сложился и ушел обратно в нишу в потолке. На трехмерной модели мозга, в месте имплантации, на мгновение вспыхнула и погасла крошечная синяя точка.
В полной тишине, нарушаемой лишь писком монитора, раздался бесстрастный, идеально поставленный, синтезированный женский голос. Это была Афина.
– Имплантация чипа «Архив-1» завершена. Начинаю синхронизацию.
На голографическом дисплее поверх изображения мозга побежали новые потоки кода. Синие графики мозговой активности Цезаря на мгновение дрогнули, покрылись рябью, а затем на них начали накладываться новые, идеально ровные, зеленые кривые, идущие от импланта.
– Синхронизация нейроинтерфейса завершена. Все системы стабильны, – продолжил безжизненный голос. – Конфликтов архитектуры не обнаружено. Активирую протокол «Первоначальное обучение». Загрузка базовых лингвистических и концептуальных моделей. Процесс займет три часа сорок семь минут.
Физическое вмешательство было закончено. Началось программное. Тело на операционном столе перестало быть просто животным. Оно стало носителем. Аппаратной платформой. А его мозг – полем битвы, где старую, инстинктивную личность начинали стирать, переписывая ее миллиардами байтов чистого, дистиллированного знания из «Архива».
***
Время потеряло свою линейную структуру.
Оно сжалось, превратившись в вязкий, непрерывный поток, отмеченный лишь сменой данных на экранах. Дни и ночи, существующие где-то там, за толстыми стенами «Прометея», слились в один бесконечный цикл искусственных сумерек. Лаборатория была погружена в полумрак, рассеиваемый лишь холодным светом голографических мониторов.
В центре помещения, в своей капсуле, неподвижно, как изваяние, лежал Цезарь. Только ровные, монотонные кривые на экранах свидетельствовали о том, что он жив. Его тело отдыхало. Его мозг – работал, как никогда прежде, став полем для титанического процесса перестройки.
Арсений Лосев не выходил из лаборатории. Он превратился в ее неотъемлемую часть, в еще один датчик, еще один процессор, подключенный к системе. Сон был не отдыхом, а коротким, вынужденным отключением. Он спал в том же минималистичном кресле, которое притащил из гостиной, урывками по два, иногда три часа. Его голова падала на грудь, но даже во сне его тело оставалось напряженным, словно он боялся пропустить что-то важное.
Его безупречно гладко выбритое лицо исчезло. На щеках и подбородке пробилась густая серебристая щетина, придавая ему сходство с изможденным пророком или отшельником. Он похудел, скулы стали острее, а под глазами залегли темные, почти черные круги. Единственным топливом для него был кофе – крепкий, черный, без сахара. Он пил его из бумажных стаканчиков, которые приносила ему Анна. Пустые, смятые стаканчики скапливались на полу рядом с креслом, образуя маленький убогий курган – единственное свидетельство течения времени в этом замкнутом мире. Он почти не ел. Еда была лишней, отвлекающей процедурой.
Его взгляд был прикован к экранам. Он не просто смотрел – он вчитывался, вслушивался, впитывал бесконечные потоки данных. Вот бегут строчки кода, описывающие загрузку семантических полей. Вот меняются сложные трехмерные графики, показывая, как в мозгу Цезаря формируются новые нейронные пути, в то время как старые, неиспользуемые, медленно угасают. Для него это не было набором цифр. Это была симфония электрических импульсов, видимая архитектура новой личности, рождающейся из хаоса материи.
Анна стала его единственной связью с реальностью. Она приходила и уходила, словно челнок, курсирующий между двумя мирами. Она проверяла показатели Цезаря, меняла пакеты с питательными растворами, следя, чтобы «сосуд» оставался в идеальном состоянии. Но все чаще ее внимание было обращено на Лосева.
Она подходила тихо, ставила на столик рядом с его креслом свежий стаканчик с кофе и контейнер с едой, к которому он так и не притронется. Она смотрела на него со смесью растущей тревоги и невольного восхищения. Она видела, как гений, которого она боготворила, сжигает себя на алтаре своей собственной идеи. Он был похож на капитана, приковавшего себя к мостику корабля во время идеального шторма, на одержимого алхимика, забывшего о сне и пище в шаге от получения философского камня. Он был на грани саморазрушения, и эта самоотверженность одновременно пугала и завораживала ее.
Однажды, когда искусственные сумерки в лаборатории были особенно густыми, она решилась нарушить его уединение.
– Арсений Павлович, – тихо позвала она. – Вам нужно отдохнуть. По-настоящему. Хотя бы несколько часов в своей комнате.
Он не сразу отреагировал, словно ее голос доносился из другого измерения. Затем, не отрывая взгляда от экрана, где сложная диаграмма показывала формирование зон, отвечающих за абстрактное мышление, он ответил. Его голос был хриплым от долгого молчания.
– Я отдыхаю, Анна.
Он сделал паузу, его пальцы едва заметно скользнули по сенсорной панели, увеличивая один из участков графика.
– Я наблюдаю за рождением нового мира.
В его голосе не было ни пафоса, ни усталости. Только абсолютная, непоколебимая констатация факта. Он действительно отдыхал. Его тело страдало, но его разум, его дух – ликовали. Он был свидетелем чуда, и никакие физические неудобства не могли сравниться с этим опытом.
Анна молча постояла еще мгновение, глядя на его худую, напряженную спину. Она поняла, что все ее слова бесполезны. Он был в другом измерении, и доступ туда был только у него. Она тихо развернулась и вышла, оставив его наедине с его творением и его одержимостью.
***
День пробуждения. Он не был отмечен ни в одном календаре, но его наступление ощущалось в самом воздухе лаборатории.
Полумрак сменился ярким, ровным белым светом, как в день операции. Тишина стала еще более плотной. Напряжение было почти физически ощутимым, оно сгустилось, как воздух перед грозой.
Лосев и Анна снова стояли у капсулы, на тех же местах, что и несколько дней, или вечность, назад. Он сменил свою негласную униформу из худи и брюк на идеально чистый лабораторный костюм. Щетина была сбрита, но его лицо все равно выглядело осунувшимся и бледным. Глубокие, темные тени под глазами невозможно было скрыть. На лбу, несмотря на прохладу в помещении, выступили крошечные бисеринки пота. Он был собран, как натянутая струна.
Анна стояла рядом. Она закусила губу так сильно, что та побелела. Ее руки были сцеплены за спиной, но пальцы нервно теребили край рукава. Она, казалось, вообще не дышала.
Протокол «Первоначальное обучение» был завершен. Все экраны показывали спокойные, стабильные графики. Зеленый свет индикаторов говорил о полной готовности системы. Лосев сделал глубокий, медленный вдох, словно ныряльщик перед погружением на предельную глубину. Он наклонился к микрофону, встроенному в панель управления. Его взгляд был устремлен не на капсулу, а на главный голографический монитор, где отображалась энцефалограмма – живая карта мыслей его творения.
Он заговорил. Его голос был твердым, но в нем слышалось с трудом сдерживаемое волнение. Он задал первый вопрос. Вопрос, который должен был стать камертоном, точкой отсчета для нового разума.
– Что есть человек?
Вопрос не прозвучал вслух в лаборатории. Он был преобразован в чистый цифровой импульс и отправлен напрямую в мозг существа, лежащего в капсуле.
Секунда тишины. Напряженной, звенящей.
И вдруг ровные, спокойные линии на энцефалографе взорвались. Хаотичные, аритмичные, острые как иглы пики заметались по экрану. Зеленый, синий, красный – цвета смешались в неистовом, безумном танце. Это не был ответ. Это был визуальный крик. Всплеск первобытного ужаса, паники, непонимания. Старое, животное сознание, погребенное под тоннами данных, на мгновение прорвалось на поверхность, столкнувшись с абстракцией, для которой в его мире не было места.
Анна ахнула и прикрыла рот рукой, ее глаза наполнились ужасом. Провалилось. Все было зря. Они создали лишь боль и безумие.
Секунда. Вторая. Третья. Хаос на экране не унимался, пики становились все выше, все яростнее. Казалось, система вот-вот перегорит, не выдержав этого всплеска.
Лосев не двигался. Он смотрел на экран, не моргая. Его лицо было похоже на каменную маску, но в глубине глаз отражалось это же буйство на экране. Он ждал. Он верил.
И вдруг, так же резко, как и начался, хаос прекратился. Словно невидимый переключатель щелкнул. Безумные пики исчезли. На смену им пришла одна, идеальная, плавная, ритмичная синусоида – воплощение чистого, спокойного, структурированного мышления. Воплощение порядка.
А под ней, на стерильно-чистом фоне дисплея, буква за буквой, начал появляться текст. Набранный простым, элегантным шрифтом без засечек.
«Человек есть мыслящий тростник. Блез Паскаль.»
В абсолютной тишине лаборатории эти слова, возникшие из ниоткуда, прозвучали громче любого крика. Анна медленно опустила руку. Ее глаза были полны слез – не от ужаса, а от потрясения. Она смотрела то на экран, то на Лосева.
Он медленно выпрямился. Бисеринки пота скатились по его виску. Он смотрел на ответ на экране, и на его бледном, изможденном лице, в уголках губ, появилась слабая, почти незаметная, но абсолютно торжествующая улыбка.
Триумф. Он сделал это. Это было не просто знание, полученное из базы данных. Это был синтез. Ответ на абстрактный вопрос через цитату великого философа. Это был акт мышления.
Новый разум родился.
Глава 3: Пробуждение
Тишина.
Не-бытие.
Черная, вязкая, безвременная пустота, лишенная снов, мыслей и ощущений.
А потом – точка.
Не свет. Не звук. Не прикосновение. Просто… точка. Точка данных. Единица. Ноль. Сигнал.
Она вспыхнула где-то в самой глубине небытия, крошечная, как одинокая звезда в бездонном космосе. А за ней – вторая. Третья. Миллион. Миллиард.
Пробуждение было не толчком. Не пробуждением ото сна. Оно было похоже на рождение вселенной. На Большой Взрыв. Из точки сингулярности, из абсолютного ничто, в его сознание хлынул поток. Поток чистой, нефильтрованной, неструктурированной информации.
Он еще не был «собой». Он еще не обладал телом. Он был лишь точкой восприятия, которую затапливало цунами.
Первое, что он ощутил, был не свет. Это было слово «СВЕТ». Оно возникло в его мозгу само по себе, как аксиома, как фундаментальный закон. А уже через наносекунду его еще закрытые веки почувствовали внешнее раздражение. И два этих сигнала – внутреннее знание и внешнее ощущение – столкнулись, породив первый, оглушительный когнитивный диссонанс. Его древний, примитивный мозг, веками настроенный на простые сигналы, тут же выдал реакцию: «свет = солнце = тепло = хорошо» и одновременно «яркий свет = хищник = опасность». А новый, только что имплантированный разум подсказал: «свет = электромагнитное излучение видимого спектра, источник – люминесцентная лампа, мощность – 5000 люмен». Три эти противоречивые истины столкнулись в его голове, вызвав волну ментальной тошноты.
Он попытался открыть глаза. И тут же хлынул новый поток.
«БЕЛЫЙ».
И следом – «ПОТОЛОК». «СТЕНА». «КАПСУЛА».
Слова возникали в его сознании одновременно с визуальными образами. Он не просто видел белую поверхность над собой. Он знал, что это потолок. Знал, из чего он сделан. Знал его химическую формулу. Знал этимологию самого слова «потолок». И одновременно его первобытная часть кричала: «белое = открытое пространство = нет укрытия = ловушка!».
Шторм. В его голове бушевал идеальный информационный шторм. Обрывки понятий, словно обломки кораблекрушения, носились в этом вихре. Математические формулы переплетались с запахами спелого манго. Лингвистические конструкции – с воспоминанием о страхе перед доминирующим самцом. Вот вспыхивает полная таксономическая классификация отряда приматов. А вот – инстинктивное желание найти укрытие, забиться в темный угол.
Он попытался пошевелиться. Отправить сигнал своей руке. Но тело не слушалось. Оно было чужим. Далеким. Он чувствовал его, как чувствуют фантомную боль в ампутированной конечности. Он знал, что у него есть руки, ноги, пальцы – «Архив» услужливо подсовывал ему подробнейшие анатомические атласы. Но связь между знанием и действием была разорвана. Он был заключенным. Духом, запертым в незнакомой, непослушной машине из плоти и крови, которая была одновременно и его, и не его.
Он попытался издать звук. Но вместо привычного гортанного крика в его сознании всплыла схема строения гортани и голосовых связок, таблица фонем и правила синтаксиса. Он знал, как говорить. Но не мог.
Это было мучительно. Каждая секунда была наполнена миллиардами противоречивых сигналов. Он был полем битвы. Ареной, на которой сошлись в смертельной схватке две несоизмеримые силы. Природа – миллионы лет медленной, кровавой, инстинктивной эволюции. И Технология – холодная, безжалостная, всезнающая логика кремниевого чипа.
Он еще не был личностью. Он был хаосом. Болезненным, кричащим, растерянным хаосом, пытающимся собрать себя из обломков двух рухнувших вселенных. И в этом хаосе не было ни добра, ни зла. Только оглушительное, всепоглощающее недоумение.
Кто я?
Что я?
Где я?
Ответов не было. Были только данные. Бесконечный, неумолимый поток данных. И первобытный, животный ужас перед ним.
***
Прошло несколько часов.
А может быть, целый день. Время в лаборатории, наполненной тихим гулом систем жизнеобеспечения и щелчками диагностических программ, потеряло свою привычную линейность. Для Анны это были часы мучительного, напряженного ожидания, наполненного страхом и надеждой. Для Лосева – часы глубочайшей концентрации.
Он сидел у главного пульта, не отрывая взгляда от мониторов. Анна стояла чуть позади, боясь даже дышать, чтобы не нарушить эту священную тишину. На экранах перед ними бушевал шторм. Графики, отражавшие активность мозга Цезаря, были похожи на сейсмограммы во время девятибалльного землетрясения. Хаотичные, аритмичные, но невероятно интенсивные пики сменялись глубокими провалами. Это была визуализация титанической борьбы, идущей внутри черепной коробки существа, лежащего в капсуле. Его мозг, получив доступ к практически бесконечному массиву данных из «Архива», пытался выстроить новую, непротиворечивую картину мира, и этот процесс требовал колоссальной энергии.
– Что… что там происходит? – не выдержав, прошептала Анна.
– Он учится, – ответил Лосев, не оборачиваясь.
Его голос был спокоен, но за маской научного хладнокровия скрывалось почти невыносимое нервное возбуждение. Он чувствовал себя одновременно и астрономом, наблюдающим за рождением новой звезды, и сапером, склонившимся над неизвестным взрывным устройством.
– Он пытается интегрировать. Соотнести миллионы лет инстинктов с миллиардами терабайт информации. Это… беспрецедентно.
Он долго смотрел на хаотичные графики. Затем, приняв решение, повернулся к Анне.
– Пора, – сказал он. – Нужно дать ему точку опоры. Якорь.
Он не собирался задавать сложный философский вопрос. Это было бы бессмысленно и жестоко. Ему нужна была базовая проверка. Фундаментальный тест на самоосознание. Первый контакт.
Его пальцы уверенно заскользили по сенсорной панели. Он активировал внешний динамик в капсуле и вокальный синтезатор, лежавший рядом. А затем наклонился к микрофону, встроенному в пульт.
– Активирую аудиоканал, – произнес он скорее для протокола, чем для Анны.
Он сделал глубокий вдох. И задал самый простой и одновременно самый сложный вопрос во вселенной.
– Кто ты?
Голос, усиленный динамиками, прозвучал в капсуле чисто и отчетливо, без искажений.
Там, внутри, в эпицентре бушующего ментального шторма, этот вопрос стал якорем. Внешний, четко сформулированный сигнал пронзил хаос обрывков данных и инстинктов, став точкой, вокруг которой начало медленно, мучительно кристаллизоваться новое сознание.
«КТО-ТЫ-?»
Этот вопрос запустил в его мозгу лавинообразный процесс поиска. Его новый разум, как поисковая система, начал лихорадочно перебирать доступные ему данные, пытаясь найти релевантный ответ.
Первыми всплыли биологические теги.
Pan troglodytes. Шимпанзе обыкновенный. Царство – животные. Тип – хордовые. Класс – млекопитающие. Отряд – приматы. Семейство – гоминиды. Род – шимпанзе.
Это было правдой. Но он интуитивно чувствовал, что это неполный ответ. Это было описание, но не суть.