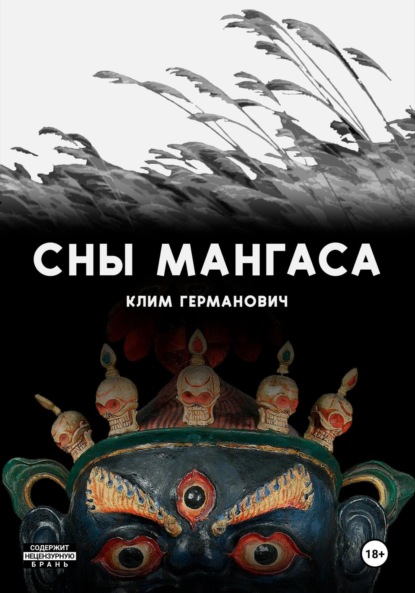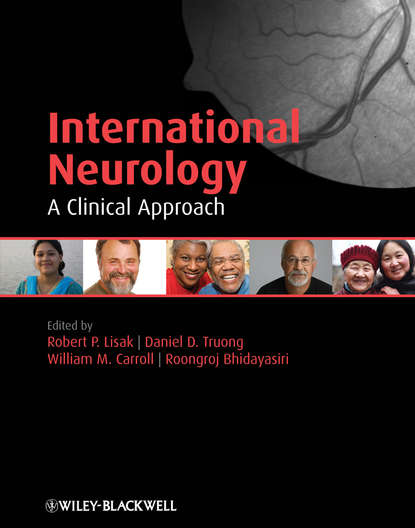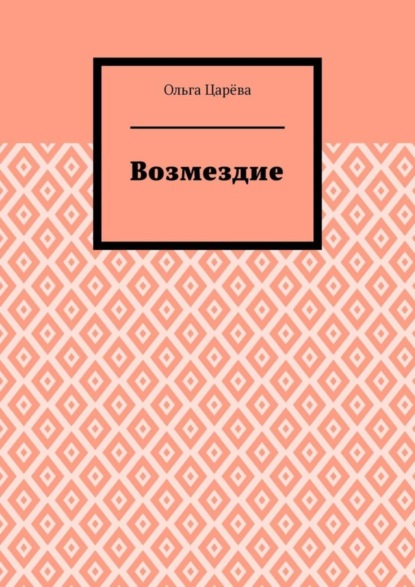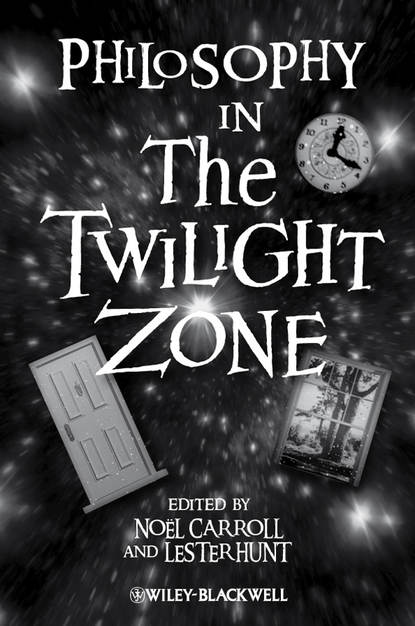- -
- 100%
- +

Тамин күн тамдан дурта
(Обитатели ада любят свой ад).
Калмыцкая поговорка
Пролог
Острые крупинки льда били в покрытое оспинами лицо, словно метеориты в лунную поверхность. Солдатская ушанка, телогрейка и ватные штаны казались тонкими тряпицами, бессильными перед завывающей стихией – злой ветер пронзал их насквозь, высасывая последние крохи тепла из спрятанного внутри розового человеческого тельца.
Это самое тельце тем временем медленно плелось по широкой равнине с вещмешком за спиной. Илья брел сквозь непогоду уже больше суток, стараясь уйти как можно дальше от места, где его отряд принял последний бой. Главное сейчас – постоянно двигаться. Для пешехода остановиться во время снежного бурана означало остаться в степи навсегда.
Если повезет, он сумеет добраться до какого-нибудь села, чтобы через его жителей связаться с районным подпольем. Но даже в этом случае придется положиться на судьбу: ни с кем из местных он не знаком, а в голодную зиму объявленная за поимку партизана награда могла прельстить многих. Попасть к полицаям живым не хотелось: Илья знал, что может ждать его в плену.
Буря постепенно стихала: битумная темень туч рассыпалась в бесформенные комья, заполнявшая воздух снежная взвесь рыхлыми волнами осела на поверхность. Ударил мороз. Идти стало чуть легче. Он остановился и зубами стащил с руки твердую, как древесная кора, рукавицу, поправил съехавшую на глаза шапку, всмотрелся в горизонт. На фоне антрацитового неба был заметен тонкий белый росчерк. Удача! Через несколько часов столбик дыма привел его к маленькой потрепанной юрте, наполовину придавленной высоким сугробом. Странно было встретить одинокое жилище посреди гиблого простора, да и выглядело оно чрезвычайно убого: ветхий, почерневший от времени войлок местами содран, сквозь его рваные раны виднелись серые ромбы деревянного остова. Илья пригнулся к низкой дверце в лохмотьях отслоившейся краски и постучал.
В полутемном помещении было натоплено. Стояла вязкая тишина – лишь за войлочной стеной вновь бессильно взвыла метель. Спиной ко входу, у очага, одиноко сидела совсем молодая девушка. В отсветах пламени ее убранные в толстую косу смоляные волосы отливали всеми оттенками багрового.
Переступив порог, Илья стащил с головы покрытую ледяной коркой ушанку и молча замер, парализованный волной согретого огнем воздуха, ударившего в обмороженное лицо. Хозяйка обернулась, увидела нежданного гостя и мягко кивнула Илье, словно старому знакомому. Быстро поднявшись, она с улыбкой шагнула к нему навстречу, протягивая пиалу с дымящимся чаем.
Последним, что почувствовал Илья перед нахлынувшей темнотой, стало сладкое ощущение домашнего уюта – он был счастлив наконец-то очутиться там, куда стремился так долго, кажется, всю свою жизнь…
Нетленный
Ехать в Степной было настоящей пыткой. Нежный зад особоуполномоченного Степана Ильича не привык к оврагоподобным колдобинам, которые в изобилии встречались на этом пыльном ответвлении астраханского тракта. Внезапное появление пульсирующей головной боли – закономерного последствия безудержного гостеприимства местного воеводы – в сочетании с дорожной тряской быстро вывело организм из с трудом стабилизированного при пробуждении состояния. Громогласный окрик заставил водителя в папахе с васильковым верхом резко съехать на желтую обочину, из-за чего машину окутало вихрем из песка и засохших травинок.
Вывалившийся с заднего сиденья пассажир громко опустошил нутро и, вытирая красную физиономию пахучим пучком полыни, заполз обратно в мягкую утробу огромного китайского самохода, замершего посреди бескрайней равнины словно рисовое зернышко, белеющее на поверхности пригоревшей сковороды. Стараниями хлебосольного хозяина вчерашний ужин перетек в ранний завтрак, и теперь Степан Ильич извергал из себя съеденное вместе с потоком матерных слов, в которых упоминание бога смешалось с ненавистью к астраханской самогонке, икре и гребаным нехристям, заставившим его бросить в столице опричные дела и ехать в эту сухую глушь, жить в которой брезгуют даже деревья. Затянутая в кожаный плащ туша Степана Ильича, распространяя кислый запах, слизнем растеклась на заднем сиденье. Тяжелый пинок свежезабрызганного сапога по спинке водительского кресла был безошибочно опознан как команда продолжать движение.
Через двести семьдесят верст, совершив еще пять таких остановок, машина оказалась в столице буддийской автономии. Голова перестала болеть, и к Степану Ильичу вернулась возможность думать о чем-то кроме собственного самочувствия. Прикладываясь к бутылке теплого кваса, он крутил головой, оценивая изменения, произошедшие в городе со времени его последнего визита. Минуя в сумерках каждую из восьми въездных арок, украшенных многоярусными крышами и пульсирующими неоном вертикальными надписями на старомонгольском, Степан Ильич в очередной раз пытался угадать значение этих орнаментоподобных посланий. Конечно же, в соответствии с установленными правилами туземная письменность всегда дублировалась специальными табличками на русском и китайском, но поскольку переводы не были снабжены подсветкой, в это время суток их мог прочитать только любопытный пешеход, затерявшийся на городской окраине с фонариком в руке. Впрочем, изложение этих фраз на кириллице мало чем помогло бы Степану Ильичу: смысл мантр практически всегда непостижим для непосвященных, воспринимающих их как непонятный набор слов.
Как только пыльный самоход затормозил перед дверьми администрации Гурхан Ламы, из него выскочила подтянутая коренастая фигура, ничем не напоминающая вонявшую перегаром куклу, которая с помощью дворника была загружена в салон китайского монстра в Астрахани. Привычным движением Степан Ильич поправил скрипучую портупею, оглядел медную в зеленых потеках табличку «Ламайское Духовное Правление», нахмурился и вошел в здание. Громыхая подкованными сапогами, он быстро шагал по знакомому коридору, распугивая припозднившихся послушников, стремившихся испариться с его пути: в народе хорошо знали, кому по уставу положены казенные кожаные плащи с кровавым подбоем.
Распахнув очередные тяжелые двери, он увидел закутанного в шафрановый шелк Гурхан Ламу. Кроме роскошного материала единственным отличием его облачения от одежд обыкновенных монахов была орденская колодка, говорящая об успешной военной карьере хозяина кабинета. С лупой в руке он читал потрепанную временем книгу, состоявшую из горизонтально расположенных прямоугольных листочков, которые при чтении буддисты перекладывают из одной стопки в другую. Скрип двери и волна чесночного перегара заставили старого чиновника оторваться от страниц, соперничавших по ветхости с читателем: «Что ж, с приездом! Звонили из Астрахани. Давно ждем».
С этими словами Гурхан Лама кивнул куда-то в угол, в котором неожиданно материализовался невидимый до этого секретарь, склонившийся перед гостем с белым хадаком1 на вытянутых руках. Брезгливо отмахнувшись от восточного церемониала, Степан Ильич прошагал к столу и, не спросив разрешения, уселся на резной стул напротив хозяина.
– Ну что, Сан Саныч, доигрались? – южнорусский выговор опричника отдавал наглецой, но в его голосе сквозили дружеские нотки.
– Что в этот раз? – Гурхан Лама с восточной невозмутимостью смотрел на развалившегося гостя. – Кто пишет?
– Как обычно, твой зам проявляет бдительность…
– Я эту тварину отправлю когда-нибудь послом к Эрлик Номин-хану2, пусть там попробует карьеру построить. И в чем претензия?
– Ересь у вас тут завелась. При полном попустительстве властей.
При этих словах брови Гурхан Ламы поползли вверх.
– Какая ересь? Тут у нас вообще-то буддисты. Ты же в курсе?
Опричный куратор степного края хорошо разбирался в местной специфике. Но это не снимало с него обязанности реагировать на любые доносы, касающиеся государева дела. Поскольку ересь приравнивалась к измене, любое обвинение в столь тяжком преступлении требовало личного вмешательства Степана Ильича. Несмотря на широкую автономию, которую в религиозных вопросах получило местное население, большей частью состоящее из инородцев буддийского вероисповедания, оставлять эти вопросы вообще без присмотра было нельзя. Степан Ильич считал гениальной идею Государя, придумавшего после превращения Восточной Сибири в непригодную для жизни пустыню направить всех бежавших от радиации жителей Тувы и Бурятии к их братьям по вере в Поволжье: чтобы меньше смущали православных, да заодно служили буфером, защищающим крестьян Черноземья от набегов агрессивного Имамата.
Однако такая религиозная сепарация дала побочный эффект: со всей империи в Благословенную Автономию начали сами собой стекаться представители всех восточных и псевдовосточных культов. Одни пытались найти себе в наставники настоящего гуру, другие жаждали смешаться с толпой таких же ищущих просветления. Взять, к примеру, греко-буддистов. Эти хотя бы были безобидными. К тому же умудрились предъявить документы с обоснованием традиционного происхождения своего направления – большинство из них оказались копиями с якобы утерянных оригиналов, которые хранились в библиотеке Иволгинского дацана. Никто из скептиков не смог или не осмелился доказать подделку. Тем более сектанты приволокли еще и украшенное орлами и печатями экспертное заключение факультета теологии Московского императорского университета о том, что возникший полторы тысячи лет назад греко-буддизм проник в Россию через Центральную Азию и тайно практиковался в среде причерноморских греков. Вопрос возникал один: откуда у этих замотанных в белые тряпки бородачей деньги на покупку бумаг такого уровня? Да и усердные кивки представителя православного духовенства в земской комиссии по верованиям свидетельствовали о том, что дело нечисто и от него за версту разит посулом. Но подкопаться было невозможно.
После блестящей юридической победы новые члены Имперской традиционной сангхи3 возвели собственный храм на берегу Каспия, который они неизменно именовали Гирканским морем. В центре святилища с дорической колоннадой греко-буддисты установили выкрашенную в синий двухметровую копию Геркулеса Фарнезского. Тщательно воспроизведя мускулатуру античного героя, нанятый ими скульптор весьма вольно обошелся с его физиономией и половыми органами: характерную для греков курчавую растительность на лице он заменил на залихватски закрученные вверх усы, а на месте пигмейского отростка поместил внушительный лингам, развеивающий любые сомнения в божественном величии героя. Обновленный олимпиец стал похож на русского борца Ивана Поддубного с зажатым между ног зарядом от гранатомета РПГ-7. Эту статую сектанты нарекли защитником буддийского учения Ваджрапани и раз в месяц устраивали в соседнем городе Лагани театрализованное представление для детей, повествующее об одном из двенадцати подвигов могущественного бодхисаттвы.
Поскольку никакого интереса для туземного населения они не представляли, вскоре в Автономии угасло всякое любопытство к еще одной странной секте. А вот на территории остальной страны их деятельность, наоборот, набирала обороты. Получив статус исконной имперской конфессии, греко-буддисты сразу же понаоткрывали в крупных городах официальные «молельные дома» с храмовыми гетерами, официальной задачей которых было проведение «индивидуальных обрядов» для «единоверцев». Конечно же, все обряды гетер, а по документам – откомандированных послушниц прикаспийского монастыря, осуществлялись на безвозмездной основе, если не считать добровольных пожертвований на строительство пагод и иных культовых сооружений. В итоге поток называвших себя греко-буддистами посетителей не иссякал, как и золотой ручеек в карманы шишек из стольного опричного приказа, крышевавшего столь прибыльное предприятие. Но все это относилось к той категории чужих дел, в которые заботившийся о целостности своих конечностей Степан Ильич предпочитал не соваться.
За горячим чаем (не молочный настой из опилок, которым привык утолять свою жажду местный люд, а изысканный уишаньский Да Хун Пао) Степан Ильич и Гурхан Лама обсуждали положение дел. Они познакомились очень давно – вскоре после того, как увешанного наградами ветерана Чикагского побоища и Приштинской резни внедрили в ряды лютующей в московском чайнатауне китайской триады. Унаследованная от казахских предков внешность, склонность к языкам и чудовищная жестокость быстро принесли бывшему уряднику авторитет, позволивший вначале возглавить преступный клан, а затем объединить под своим началом все азиатские группировки Империи. Поддерживавший с ним связь Степан Ильич очень уважал своего секретного сотрудника, ежедневно рискующего жизнью во имя Государя («Да и как не поддержать коллегу, который не прочь поделиться прибылью от нелегального бизнеса с куратором?»). Почетную пенсию постаревший Сан Саныч встретил в статусе Гурхан Ламы, управляющего буддийскими владениями Государя.
– Что написал мой зам?
– Говорит, что у вас тут обосновались православные буддисты. Проповеди читают, смущают народ еретическими заявлениями. Считают, что Будда признан церковью святым, а значит, поклоняться ему могут и христиане.
– Достопочтенный Викпе указывает на кого-то конкретного? – мягко спросил Гурхан Лама, подливая ароматный чай в миниатюрную пиалку опричника.
– В доносе он назвал смутьяна по имени. Яван Гелюнг. Русский.
– Русский? Ну что у нас за народ-то такой… – Гурхан Лама с горечью покачал головой. – В кого не ткнешь, все сплошь бунтовщики да лихие люди: что христиане, что язычники. А тут еще и смешали все в кучу. Что делать с ним будешь?
– Что тут думать? На цугундер до выяснения, и всего-то.
– Есть одна идея. Тебе же все равно его в расход, а у меня тут государственное дело…
В этот вечер они засиделись допоздна, обсуждая планы буддийского лидера. Конечно же, Степан Ильич знал, в чем заключалась основная миссия его подопечного. Любая религия неотделима от политики, и в этом плане Государь поддерживал все идеи по усилению позиции отчизны: тут было и объявление имперской территории Западным раем Будды Амитабхи, к перерождению в котором должны стремиться все последователи Дхармы, и «обнаружение» на территории автономии новой реинкарнации Далай-ламы после ожидаемой в ближайшие годы кончины в Поднебесной последнего из все еще живых Пятнадцатых («Действительно, чем мы хуже хитрозадых индусов и американцев? В мире, где уже есть два Далай-ламы Шестнадцатых, найдется место и третьему»). Но начинать следовало с малого…
Внимательно выслушав ламу, Степан Ильич срочно затребовал сеанс спецсвязи. Нужно было посовещаться с начальством: без санкции сверху он не готов был принимать решений государственной важности.
Утром Степан Ильич слушал доклады в местной приказной избе. Несмотря на невысокую квалификацию (все набраны из ярыжных людей, наскоро обучены грамоте, сыскному делу и кулачному бою), работавший тут опричный люд не терял времени. Моментально были допрошены все свидетели, слышавшие дерзкие речи об Иоасафе, царевиче Индийском («Поскольку Сиддхартха Гаутама причислен под этим именем к лику святых, то значит, никакой разницы между буддизмом и православием нет – все учат об одном том же разными словами»). Изъято найденное при обыске доказательство – потрепанный номер журнала «Атеистические чтения», главного рупора отечественных буддистов времен Красной Бури. Фиолетовый штамп «Библиотека им. Амурсаны» свидетельствовал о подлинном характере этого редкого артефакта.
Когда к отяжелевшему после обильного обеденного пиршества (запеченный в собственном желудке барашек и жаренная овечья печень в конвертах из овечьего же внутреннего жира) опричнику ввели основного свидетеля, Степан Ильич как раз подумывал о том, чтобы пораньше завершить рабочий день и закатиться в баню к греко-буддистам. Но вид вошедшего сразу прогнал сонливость: на Викпе был парчовый френч со стоячим воротником, расшитый рубиновыми драконами. Его шею и руки увешивали связки крупных бус и амулетов из цветного дерева и полудрагоценных камней – угадывались бирюза, яшма и нефрит. Кричащая обертка скрывала неприятного старика с седой бородой и обтянутым смуглой кожей черепом, покрытым затейливым узором из пигментных пятен. Отталкивающее впечатление укрепилось, когда заместитель Гурхан Ламы беззубо прошамкал: «Предпочитаю, чтобы меня называли Гуру».
Степан Ильич уже успел пробежаться по личному делу Викпе и имел представление о визитере – самозванном оракуле, прибившемся к буддистам после большой чистки, организованной властями в среде питерских неформалов. Значительная часть всех этих хиппи и панков, богемных художников и литераторов, оставив обжитые мансарды и подвалы, отправилась на перевоспитание на сибирские лесозаготовки. Лишь самые пронырливые смогли улизнуть, постригшись в монахи или записавшись добровольцами во время очередной военной кампании. Укрывшийся в подвале Петербургского дацана молодой Витька Левин из подпольной травокурно-теософской секты вышел из вынужденного трехлетнего затворничества уже бритоголовым медиумом Викпе, через которого верующим могли вещать сразу три дхармапалы4. После переезда в буддийский анклав новообращенный оракул, а теперь по совместительству и заместитель Гурхан Ламы, завязал с марихуаной, отдавая предпочтение галлюциногенным грибам, которые якутские купцы по специальному заказу поставляли последователям эзотерических культов. Регулярно выпускаемые им послания – тексты туманного и запутанного содержания, органично сочетающие в себе ламаизм с нью-эйдж-лексикой и русским фольклором, – завоевали йогину Викпе славу провидца, известного в том числе в узкому кругу экзальтированных столичных интеллектуалов, втайне от церковных властей (но не от опричного приказа) не брезгующих буддийскими прорицаниями.
Разговор со свидетелем не принес ничего нового. Мало что добавляя к ранее представленному доносу про очернение Православия, Гуру по-восточному витиевато расхваливал политику Государя, уверял в своей преданности имперским идеалам и туманно намекал на роль своего начальника в распространении смуты и ересей в Автономии. Из его рассказа следовало, что лишь плачевное состояние здоровья и раннее увлечение дзен-буддизмом помешали молодому Викпе присоединиться к служивому сословию и стать коллегой своего собеседника. В приходящих к нему видениях он видел свое предназначение – сыграть важную роль для Империи. Да и как иначе? Негоже вести государственные дела без совета с настоящим оракулом.
В завершение, скромно опустив взор, старик погладил бородку и попросил принять небольшой сувенир для пополнения коллекции восточных редкостей, которую, как ему известно, собирал Степан Ильич. Вызванные из коридора помощники тут же втащили завернутый в ткань предмет, который старик самолично развернул перед опричником: внутри оказалась мандала, искусно собранная из свернутых в рулончики банкнот с редкими вкраплениями золотых червонцев. «Очень полезно для медитаций», – с вежливым поклоном объявил Викпе. Профессиональным взглядом взвесив соотношение красных, синих и зеленых купюр, Степан Ильич оценил подарок минимум в сорок тысяч целковых и кивнул гостю, показавшемуся в этот момент чрезвычайно приятным: он всегда ценил общение со знатоками восточного искусства…
Завершив изучение собранной по делу информации, Степан Ильич спустился в подвал. В полутьме белело висящее на блоках тело. Видно было, что до прихода начальства с ним успели поработать: бритая голова безвольно свешивалась на грудь, исполосованная спина сочилась алой юшкой. Особоуполномоченный не стал приближаться к арестанту – из коридора, не переступая дверной порог, просканировал открывшуюся перед ним картину и тут же злым шепотом распорядился: «Рано вы его на шибенице растянули. Привести в нормальный вид – и утром ко мне на допрос».
Утро Степана Ильича началось ближе к полудню. Наскоро опохмелившись кумысом (ледяной квас превратился в недостижимый предмет мечтаний, так как его можно было достать только в астраханском воеводстве), опричник ждал подозреваемого с выражением на физиономии, по кислоте соревновавшимся с напитком, которым он был вынужден лечиться.
Когда допрашиваемый занял стул, опричник пододвинул ему открытый золотой портсигар, выглядевший сверкающим инопланетным артефактом на истертой поверхности казенного стола. В ответ на несогласное покачивание головой: «Нам такое нельзя» – Степан Ильич привычным движением размял и сунул под залихватские усы серую папиросину с золотым оттиском «Императорскiя». Он выдул густое облако, мгновенно скрывшее его в щиплющей нос пелене, и начал протокольным голосом:
– Так, подозреваемый, Дванов Иван Александрович, пол мужской, … третьего года рождения, место рождения – Иркутск, холост, монах двенадцатого ранга Падмасамбхава Сангхи. Все верно? Также известен как Яван Лама…
– У вас же написано там все.
– Не ерепенься. Тут не место колючки показывать. – Табачный туман еще больше сгустился вокруг Степана Ильича. – Знаешь же, в чем тебя обвиняют? А что за это светит, знаешь?
Монах неподвижно смотрел в пол. На фоне застиранного одеяния выделялись оголенные руки в бинтах, сквозь которые проступали багровые следы вчерашнего допроса.
– Я ни в чем не виноват.
– Так все говорят. Невиновные к нам не попадают.
– Я правда ничего не делал. Мне не в чем сознаваться.
– Слушай, Ваня, ты простой русский хлопчик, который попал в сети местных сектантов. Видно же, что из нормальной семьи.
– Не сектант я. Буддизм у нас признан традиционным вероисповеданием.
– Ну это для местных калмыков, тувинцев и бурят он традиционный. А ты русский, а значит, с тебя и спрос особый. Но повезло тебе, отчизне понадобилась твоя помощь. Про Хамбо Ламу Итигэлова слыхал?
– Мы про него в школе учили. Буряты потеряли нетленного ламу во время эвакуации через Байкал, когда возникла угроза окружения бурятских ополченцев китайскими частями. Кажется, машина с ним под лед провалилась, или что-то в этом роде.
– Все правильно. Второй Сибирский Ледяной поход. Вот тогда Россия и лишилась единственного нетленного гуру. Уж второго подряд, если считать калмыцкого Кекш Бакш. Понимаешь, какая утрата? На Шри-Ланке их уже несколько, про Индию вообще молчу. В общем, послушал я тут недавно про этот ваш тукдам, и стало ясно: важно, чтобы следующий нетленный лама был русским. Понимаешь, о чем я говорю?
– Но это же так не работает. Я еще не готов для такого. У меня это просто не получится…
– Что значит «не получится»? Ты у меня это брось! Вон ваш Гурхан Лама по приказу Государя веру родную поменял и буддистом сделался. И, кстати, очень уважаемым буддистом: ему по праздникам из Поднебесной и Индийской конфедерации персональные поздравления шлют. А ты ради Родины не хочешь тукдам замутить? К тому же если не будет получаться, то поможем тебе. На следующей неделе привезут китайский промышленный дегидратор. Так что засушим тебя, как волжского лещика…
Клубы папиросного дыма рассеялись под раскаты молодецкого хохота, открыв взору опричника растерянное лицо Яван Ламы.
Ранним утром Чогьялу Солынг медленно двигался вдоль улицы, собирая мусор. Несмотря на поседевшие волосы и скрюченную спину, он хорошо выполнял свое дело. Зрение все еще позволяло ему работать, а опутанные жгутами жил коричневые руки ловко управлялись с мешком и самодельным гарпуном для мусора, изготовленным из палки с заточенным гвоздем. Поравнявшись с зарешеченным оконцем у самой земли, старик нагнулся за очередным папиросным бычком и заметил в полутьме камеры бритоголового паренька. Закутавшись в остатки монашеских одеяний, заключенный сидел с закрытыми глазами на грязном одеяле, разложенном прямо на бетонном полу.
Чогьялу лег на асфальт и тихим шепотом позвал: «Эй, манджик!» Сидящий поднял голову и увидел силуэт, заслонивший свет в окне. «Возьми меня за руку! – Чогьялу просунул костлявую ладонь сквозь прутья решетки и ухватил паренька за запястье. – Теперь закрой глаза и помолчи. Открой мне свой разум».
Когда через пару часов околоточному сообщили о старом дворнике, найденном без сознания у здания опричного приказа, он только покачал головой. В таком возрасте уже нельзя работать, давно нужно взять на место старого Чогьялу кого-то помоложе.
Вечером просидевший весь день в позе лотоса Яван Лама улыбнулся кончиками губ. Его неподвижная фигура вдруг немного расплылась, постепенно стала полупрозрачной, а затем просто исчезла со звуком лопнувшего мыльного пузыря. В пробивающихся сквозь решетку лучах солнца медленно плыли пылинки, поднятые вверх потоком воздуха, устремившегося к месту, где только что находился арестант.
В этот момент гуляющие по улице прохожие остановились, чтобы полюбоваться на парящую над городом радугу – удивительное явление для давно установившейся засушливой погоды. Разноцветная дуга ярко переливалась в редких пломбирных облаках, расцвечивая скучные бетонные коробки и отбрасывая веселые отблески на сосредоточенные лица монахов, спрятавшихся в тень для ежедневной медитации. Заметив ее в окне, лежащий под капельницей сморщенный старичок в красном одеянии разразился заливистым детским смехом: за последние пятьдесят лет Чогьялу Солынг ни разу так не радовался за члена сангхи.