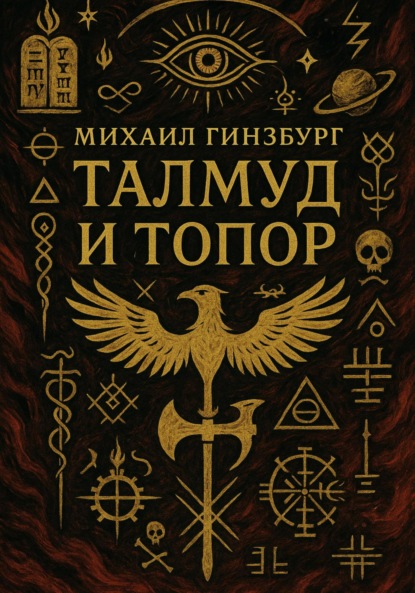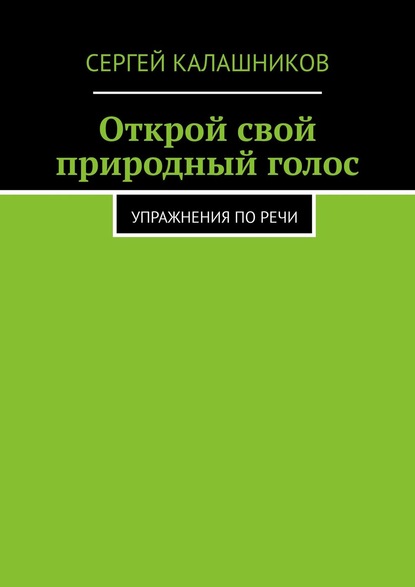- -
- 100%
- +

Глава 1
С диспутами у ребе Акивы бен Йосефа всегда было… не так, как у людей. Не с теми, что скрипели на пергаменте Талмуда или пылились в толстенных томах комментариев – о, там-то он плавал, как щука в реке, гоняя оппонентов по лабиринтам логики с азартом гончей, взявшей след. Там буквы были его клинком, а цитаты – щитом кованым.
Нет, сложности, непреодолимые, как иерихонская стена, начинались, когда спор выползал из библиотечной тиши в грязную, нечесаную явь штетла Полянки. Например, принимал облик Ханы, бойкой и румяной, как печеное яблоко, жены меламеда. Эта бестия с упорством, достойным осадной машины, каждое утро водружала свои драгоценные горшки с дохлой геранью на ту самую, единственную приличную скамью у синагоги, где Акива имел привычку после утренней молитвы собирать мысли в кучу.
– Ребе, ну где ж им еще греться, сироткам моим цветочным? – заводила Хана свою песню и сегодня, снова загромождая ему путь своими зелеными бастионами. Мокрый, до костей пробирающий октябрьский ветрило трепал ее платок и заставлял хилые красные цветки герани понуро кивать, словно соглашаясь с хозяйкой. – Солнца-то днем с огнем не сыщешь в этом проклятом баронстве, одна морось да туман! А тут хоть какой свет от дома Божьего падает, глядишь, и не загнутся до срока!
– Но позвольте, почтенная Хана, – в который уж раз за неделю начал Акива, привычным жестом поправляя очки на остром носу и пытаясь выжать из себя остатки терпения, которых было меньше, чем грошей в кармане у бедняка. – Сия скамья, согласно незыблемому постановлению кагала от пять тысяч… э-э… затертого года, определена для отдохновения мужей ученых и размышлений благочестивых! А не для произрастания… кхм… сорной травы!
– Какой еще сорной травы, ребе? – Хана набычилась, уперев руки в бока так, что ее широкий стан стал еще шире. – Цветы это! Для красоты! Чтоб глаз людской радовался, а не только пыль с ваших фолиантов сдувать! Да и где сказано, что размышлять нельзя рядом с цветами? Может, от них и мысли светлее станут, а? Как лепестки!
Акива шумно втянул воздух, чувствуя, как стройная цитадель его аргументов, возведенная на незыблемом фундаменте Галахи, трещит и осыпается под напором простого бабьего «а я так хочу!». Он окинул взглядом унылую картину штетла: кривые улочки, размокшие до состояния топкого болота; покосившиеся, вросшие в землю халупы; серое, брюхатое небо, готовое в любую минуту извергнуть новую порцию стылой воды. Свежестираное, но давно не сохнувшее белье висело на веревках безжизненными, серыми тряпками. Несло сыростью, прелыми листьями, кислым дымом из труб и еще чем-то неуловимо затхлым – не то квашеной капустой, не то самой жизнью в этих Полянках.
Пожалуй, Хана была по-своему права – ее чахлая герань действительно была одним из немногих ярких пятен в этой беспросветной серости. Но скамейка!.. Его скамейка!
– Почтеннейшая Хана, давайте взглянем на сие с точки зрения здравого смысла и пользы общественной, – предпринял Акива последнюю, обреченную попытку воззвать к разуму. – Скамья – одна штука. Желающих присесть и предаться думам – множество. Ну, или хотя бы я один, но мне она нужна как воздух! А ваши горшки… они занимают… э-э… стратегически важное пространство!
Именно в самый разгар этого очередного гераниево-талмудического сражения, когда Акива почти сломил оборону Ханы (по крайней мере, ему так казалось) и уже готовился добить ее неопровержимой ссылкой на Рамбама, он впервые услышал этот звук.
Он пришел со стороны старого, Богом забытого кладбища на самой окраине штетла, там, где черной стеной подступал дремучий Зубровский лес. Звук был… неправильный. Мерзкий. Скребущий. Будто кто-то здоровенный волок по мокрой земле мешок с булыжниками. Или… или скреб когтями по могильному камню.
Ветер на мгновение замер. Горластые куры, вечно рывшиеся в грязи у синагоги, разом притихли. Даже Хана перестала спорить и изумленно прислушалась, ее круглое лицо вытянулось.
– Что за… напасть? – прошептала она, поежившись не то от холода, не то от внезапного, необъяснимого страха.
Акива молчал, весь обратившись в слух. Скрежет повторился – громче, определенно ближе. Он был чужим. Звук, которому не было места ни в священных текстах, ни в ученых диспутах, ни уж тем более на мирной (пусть и оспариваемой) скамейке с геранью. От этого звука по спине Акивы пробежал холодок, не имеющий ничего общего с промозглым октябрьским ветром.
Что-то древнее, злое и очень нехорошее просыпалось там, на старом кладбище, под унылый аккомпанемент осеннего дождя. И ребе Акиве бен Йосефу вдруг стало совершенно наплевать и на герань, и на скамейку, и на все диспуты мира.
Ну как? Достаточно мрачно и по-сапковски? Жду сигнала, чтоб продолжить пытку следующей главой.
Глава 2
Скрежет оборвался так же резко, как и начался. Повисла тишина, густая, неестественная, будто мир вокруг затаил дыхание. Лишь дождь монотонно шуршал по крышам да нервно кудахтали куры, забившиеся под навес синагоги. Ветер завыл в щелях старых досок, качая единственный фонарь у входа, который метался, отбрасывая на мокрую землю рваные, пляшущие тени.
– Тьфу на тебя, нечистый! Сгинь! – выдохнула Хана, поспешно трижды сплюнув через левое плечо и скрутив пальцы в замысловатую фигу, которой ее еще бабка учила от сглаза и всякой пакости. – Зверюга какая, не иначе. Барсук, старый хрыч, могилы разрывает, чтоб ему костей не собрать! Пойдемте, ребе, от греха! Нечего тут под дождем стоять, слушать мерзость всякую!
Но Акива не шелохнулся. Он все еще вслушивался в тишину, но теперь она казалась ему не пустой, а наполненной… ожиданием. Зловещим. Барсук? Может, и барсук. Но что-то в этом звуке было слишком… методичным. Тяжелым, как работа каторжника. Холодный липкий страх, кольнувший его мгновение назад, не отпускал, странным образом смешиваясь с незнакомым доселе чувством – жгучим, почти болезненным любопытством. Что там такое? Что издавало этот скрежет? И почему оно проснулось именно сейчас?
– Нам нужно… Хана, нам нужно взглянуть, – сказал он тихо, сам удивляясь собственной решимости. Голос предательски дрогнул.
– Взглянуть?! – Хана отскочила на шаг, ее круглое лицо стало еще круглее от ужаса и праведного возмущения. – Ребе, вы в своем уме?! На кладбище?! Ночью почти?! (Хотя до ночи было еще далеко, низкие тучи и нудная морось создавали полное ощущение сумерек). Да туда и днем заходить – дрожь берет, одни кости обглоданные да воронье! Не пойду! И вам не советую! Мало ли что там… бродит!
– А если это… не зверь? – Акива обвел взглядом серые, мокрые крыши штетла, жавшиеся друг к другу, словно ища защиты. – Если это что-то… что угрожает всем нам? Не можем же мы просто сделать вид, что оглохли. Это было бы… безответственно.
Он пытался убедить не столько Хану, сколько самого себя. Мысль о том, чтобы сунуться туда, на старое, заросшее крапивой кладбище, про которое и так ходили слухи один другого страшнее, вызывала у него приступ дурноты и предательскую дрожь в коленках. Он был книжником, толкователем Закона! Его оружие – слово, логика, молитва! Что они против… против того, что издавало такой звук?
– Безответственно – это шататься по погостам в такую погоду! – не сдавалась Хана, наступая. – А ответственно – сидеть дома в тепле, пить горячий чай с цимесом и читать Тегилим*! Вот это – да! Пойдемте, ребе, ну право слово…
Но Акива уже решил. Или, скорее, решение само нашло его. Он не мог просто уйти. Не мог не узнать.
– Я пойду один, – сказал он тверже. – Вы ступайте домой, Хана. И… и помолитесь. За меня.
Не дожидаясь возражений, он решительно (или изо всех сил стараясь казаться решительным) повернулся и зашагал по размокшей грязи в сторону кладбища. Дождь усилился, холодные струи стекали по лицу, смешиваясь с потом. Под ногами противно хлюпало. Он плотнее закутался в старенький лапсердак, который моментально промок и стал тяжелым, как кольчуга. В руке он стискивал тоненький молитвенник – единственное «оружие», которое пришло ему в голову захватить.
Дорога к кладбищу вела через пустырь, заросший высокой, жухлой травой и жгучей крапивой. Низкая, покосившаяся каменная ограда местами обвалилась. Старые, замшелые надгробия криво торчали из размокшей земли, как гнилые зубы великана. Ветер стонал между могил, раскачивая голые, черные ветви деревьев. Атмосфера была гнетущая, пропитанная запустением, смертью и чем-то еще… чем-то злым.
Акива остановился у полуразвалившихся ворот, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь в ушах. «Шма, Исраэль… – прошептал он пересохшими губами, начиная главную молитву. – Адонай Элохейну, Адонай Эхад…» Он повторял святые слова снова и снова, как заклинание, силясь унять дрожь и собрать разбегающиеся мысли. Что он здесь делает? Зачем пришел? Какая муха его укусила?
И тут он снова услышал его. Скрежет. Совсем рядом, за ближайшими покосившимися надгробиями. Кто-то или что-то методично рыло землю. Акива замер, перестав дышать. Он медленно, крадучись, двинулся на звук, прячась за высокими могильными плитами. Рука сама собой подняла молитвенник, будто это был меч или, на худой конец, дубина.
За покосившейся гранитной плитой с полустертой надписью он увидел источник звука. Это было… нечто. Гуманоидное, но сложенное грубо, топорно, будто из сырой глины или кладбищенской грязи. Невысокое, сутулое, с непропорционально длинными, корявыми руками, заканчивающимися чем-то вроде острых когтей или узких лопат. Оно сосредоточенно копало свежую могилу, отбрасывая комья мокрой земли с жутким, чавкающим звуком. Лица у него не было – просто гладкая, грязно-серая поверхность с двумя тускло светящимися точками вместо глаз.
Шед? Демон-землекоп? Или… голем ша'авур? Бракованный, неправильно созданный голем, обреченный на вечную бессмысленную работу? Акива читал о таких в старых, запретных книгах, но никогда не верил… До этой самой минуты.
Тварь вдруг прекратила копать и медленно повернула свою безликую башку в сторону Акивы. Светящиеся точки уставились прямо на него, холодно, без выражения. Акива почувствовал, как кровь стынет в жилах. Он хотел закричать, позвать на помощь, но из горла вырвался лишь жалкий, тонкий писк. В панике он шарахнулся назад, споткнулся о корень дерева, торчащий из земли, и с грохотом растянулся в грязи. Молитвенник вылетел из ослабевших рук и шлепнулся прямо перед глиняным чудищем.
Тварь дернулась, будто от удара кнутом. Она издала низкий, вибрирующий звук, похожий не то на стон, не то на скрежет камней, и вдруг… начала рассыпаться. Буквально таять под дождем, оседая, превращаясь в бесформенную кучу грязи. Когтистые руки отвалились, безликая голова оплыла… Через несколько мгновений на месте странного землекопа остался лишь неровный холмик мокрой глины и пара тускло мерцающих камушков.
Акива лежал в грязи, дрожа всем телом, и неверяще смотрел на то место, где только что копошился ночной кошмар. Что это было? Молитвенник? Святые слова на его страницах? Или оно просто испугалось шума падения? Или его время вышло? Он не знал.
Он знал только одно: мир, в котором он жил до этого дня, мир пыльных книг, ученых споров и битв за скамейку с геранью, только что рухнул, рассыпался, как тот глиняный урод. А в новом, страшном мире, полном скрежета и безликих тварей, ему предстояло как-то жить дальше.
Поднявшись на негнущихся ногах, весь перепачканный липкой грязью, потерявший очки где-то в мокрой траве, ребе Акива бен Йосеф побрел прочь с проклятого кладбища, чувствуя себя самым несчастным, самым невежественным и самым напуганным человеком на всем белом свете.
Глава 3
Под покровом ночи, ставшей еще гуще от плотной завесы дождя, Акива проскользнул обратно в штетл. Никем не замеченный, мокрый, как утопленник, вытащенный из болота, перепачканный кладбищенской грязью с головы до пят, без очков и без своего верного молитвенника, он прошмыгнул по пустынным улочкам к каморке при синагоге. Ему чудилось, что на спине у него огненными буквами выведено: «Трус! Драпанул с кладбища! Видел НЕЧТО!».
Он задвинул хлипкий засов, привалился спиной к двери и долго стоял так, с шумом втягивая воздух, слушая дробь дождя по крыше и бешеный стук собственного сердца. Что это было там, в темноте? Галлюцинация, порожденная страхом и усталостью? Игра теней? Или… или он и впрямь столкнулся нос к носу с чем-то, чему не было названия в привычном мире?
Книги, что он грыз всю свою жизнь, упоминали демонов, шедим, духов, даже големов… Но всегда как-то иносказательно, туманно, как притчу для неразумных. А эта тварь… она была до жути реальной. Она копала. Она смотрела на него своими пустыми глазницами. Она рассыпалась от упавшего молитвенника! Или от его жалкого писка? Или просто время ее истекло?
Он стянул с себя мокрую, воняющую тиной одежду, кое-как обтерся жесткой тряпицей и закутался в старое одеяло. Зубы выбивали дробь – то ли от холода, то ли от пережитого ужаса. Рассказать кому? И что? Что уважаемый ребе, столп общины, струсил на кладбище, увидев глиняного монстра, который растаял под дождем? Его же на смех поднимут. Скажут, рехнулся от своих книг. Посоветуют отлежаться, травки попить успокоительной. Нет. Он будет молчать. Может, и впрямь привиделось…
Он попытался укрыться в знакомых строках Талмуда при свете оплывшей свечи, но буквы плясали перед глазами, сплетаясь в бесформенные, пугающие тени. Вместо мудрых изречений в голове назойливо скребся тот самый мерзкий звук. Вместо лика праотца Авраама перед глазами вставала гладкая, безликая голова с двумя тусклыми угольками… Уснул он только под утро, тяжелым, рваным сном, полным глиняных чудищ и разверстых могил.
Следующие несколько дней дождь то затихал, то принимался снова с удвоенной силой. Небо было неизменно серым, свинцовым, а штетл Полянки погрузился в привычную осеннюю хмарь и апатию. Но что-то неуловимо изменилось. Сам воздух стал плотнее, тяжелее, будто пропитался невидимой отравой. Поползли нехорошие, тревожные слухи.
У Ривки-молочницы за ночь скисло все молоко в погребе – так, что хоть ножом режь. Никогда такого не бывало. У старого кузнеца Йоселя почти весь инструмент покрылся странной, бурой ржавчиной буквально за пару дней, даже тот, что висел под навесом. Лейбл-мясник клялся, что его собаки воют по ночам, как на покойника, и отказываются выходить из будки даже днем. Дети стали плаксивыми, капризными, а куры во дворах бились о стенки курятников и почти перестали нестись.
Бабы на рынке шептались о дурном глазе, о мазиким – мелких бесах, пакостящих исподтишка, о том, что кто-то, видать, сильно прогневал Всевышнего или, хуже того, связался с нечистым. Мужики хмурились, проверяли засовы на дверях и покрепче запирали ставни на ночь, ругая погоду и неурожай. Старики качали головами и вспоминали древние предания о тварях, что издревле жили в Зубровском лесу и порой забредали на старое кладбище полакомиться свежей мертвечиной или страхом живых.
Но никто не связывал эти мелкие, разрозненные беды воедино. Никто, кроме Акивы. Он слышал эти перешептывания, видел эту тихую, как плесень, расползающуюся по штетлу тревогу. И сердце его сжималось от страха и липкого чувства вины. То существо на кладбище… Было ли оно одно? Или это был лишь разведчик? Предвестник чего-то большего, гораздо более страшного? А его малодушное молчание… не делает ли он только хуже? Не обрекает ли он на гибель всех этих людей, которые хоть и посмеются над ним, но все же были его общиной? Его паствой?
Он снова и снова возвращался мыслями к той ночи. К скрежету. К безликой голове. К молитвеннику, упавшему в грязь. К тому, как тварь рассыпалась. Случайность? Или священные слова, сама Книга, и впрямь обладают силой против… этого? И если так, то он, Акива бен Йосеф, книжник и знаток Закона, может быть, единственный в этом забытом Богом штетле, кто способен что-то противопоставить надвигающейся тьме.
Эта мысль была одновременно и ужасающей, и… странно будоражащей. Она выталкивала его из ступора, заставляла думать, искать ответы не только в книгах, но и в самом себе.
Вечером третьего дня, когда он услышал, как жена меламеда Хана со слезами жалуется соседке, что ее любимая, выстраданная герань на скамейке у синагоги вся почернела и ссохлась за одну ночь, будто ее опалило невидимым огнем, Акива понял – ждать больше нельзя. Молчать – преступно. То, что случилось на кладбище, не было концом истории. Это было только начало. И ему нужно что-то делать. Немедленно.
Но что? Бежать, спасая свою шкуру? Пытаться снова предупредить упрямых старейшин? Или… снова идти туда, на проклятое кладбище, чтобы взглянуть в лицо своему страху и понять, с чем они столкнулись?
Глава 4
Решимость, вспыхнувшая было в Акиве, к утру поблекла, как дешевая краска под дождем. Здравый смысл и врожденный страх перед насмешками взяли свое. Но вид почерневшей, мертвой герани Ханы, сиротливо торчащей у входа в синагогу, словно черный памятник необъяснимой хвори, снова подстегнул его. Нет, сидеть сложа руки – хуже предательства. Он должен попытаться еще раз.
На сей раз он решил обойтись без эмоциональных воплей о глиняных монстрах. Он подготовил речь. Логичную, взвешенную, сдобренную цитатами из Галахи (пусть и слегка притянутыми за уши). Он собирался убедить парнасим – трех почтенных, бородатых и вечно чем-то недовольных старейшин, вершащих судьбы штетла, – в том, что череда мелких несчастий последних дней не может быть простой случайностью. Совпадением.
Он явился в душную, натопленную каморку кагала, где пахло пылью, чесноком и старыми счетами, и тщательно перечислил все: прокисшее молоко, ржавый инструмент, дохлых кур, взбесившихся собак и, как венец творения, трагическую кончину герани. Старейшины слушали молча, поглаживая окладистые бороды и перебрасываясь скептическими взглядами поверх его головы. Когда Акива закончил свою пламенную, хоть и несколько сбивчивую речь, первым взял слово реб Залман, самый тучный, самый богатый и самый самодовольный из троих:
– Ребе Акива, при всем нашем глубочайшем… к вашей учености… не кажется ли вам, любезный, что вы ищете блох там, где их отродясь не бывало? Молоко скисло – так погреб отсырел, дело известное. Железо ржавеет – так дожди, ребе, дожди! Не май месяц! Куры дохнут – мор напал, с кем не бывает? А цветок этот… герань… ну, замерзла, бедняжка. Осень на дворе, чай, не лето красное. Не ищите черную кошку в темной комнате, ребе, особенно если ее там нет.
– Но все сразу! В одночасье! Так не бывает! – в отчаянии воскликнул Акива. – Это знаки! Знамения! Мы должны…
– Мы должны усерднее молиться, ребе, вот что мы должны, – перебил его реб Бериш, славившийся своей показной набожностью не меньше, чем своей непробиваемой скупостью. – Молиться и поститься. А не собирать бабьи сплетни про порчу да сглаз. Вы человек Книги, столп Закона! Вам ли не знать – все от Всевышнего? И беды, и испытания – все от Него! Идите, ребе, ступайте с миром и читайте Тегилим. Для души полезнее будет.
Третий старейшина, реб Пинхас, угрюмый и молчаливый, как камень, лишь кивнул, полностью соглашаясь с коллегами. Разговор был окончен. Стена сытого равнодушия и тупого самодовольства оказалась крепче любой крепостной.
Акива вышел из каморки кагала, чувствуя себя выжатым, как лимон, и оплеванным. Значит, он один. Никто не верит, никто не поможет. Штетл обречен? И он вместе с ним?
Он брел по грязной улице, не разбирая дороги, погруженный в свои черные думы, когда его окликнул тихий, скрипучий голос:
– Ребе Акива… Подь сюды, касатик. Ближе подь.
Акива вздрогнул и обернулся. У стены своей покосившейся лачуги на самой окраине штетла, куда и собаки не забегали, сидел старый Мойше. Мойше-Каббалист, или Мойше-Юродивый, как звали его за глаза обыватели. Древний старик, почти слепой, с длинной спутанной седой бородой, в каких-то немыслимых лохмотьях, больше похожих на тряпье пугала огородного. Большинство считало его выжившим из ума бедолагой, который бормочет себе под нос всякую чепуху и видит то, чего нет. Но некоторые поговаривали шепотом, что Мойше знает поболе всех старейшин вместе взятых, и что безумие его – лишь личина, скрывающая либо глубокую мудрость, либо опасное, запретное знание.
– Ты чего такой черный, ребе? Акива? – проскрипел Мойше, щуря подслеповатые, выцветшие глаза. – Будто с похорон идешь. Али на похороны собрался?
– Меня не слушают, реб Мойше, – горько ответил Акива, подойдя ближе. Из хибары старика несло сушеными травами, пылью веков и еще чем-то острым, непонятным. – Говорят, я все придумываю. А беда… она уже здесь, на пороге!
– Беда… – протянул старик, кивая своей трясущейся голове. – Беда не стучится, касатик. Она приходит тихо, на мягких лапах, как тать в ночи. А когда ты ее заметил – поздно уж пить боржоми. Ты видел? Глазами своими видел?
Акива замялся. Рассказывать ли этому полубезумному старику про глиняное чудище? Но что-то в выцветших, но пронзительных глазах Мойше заставило его говорить. Он выложил все – про скрежет, про страх, про безликую тварь, про молитвенник, про то, как она растаяла. Мойше слушал молча, не перебивая, лишь иногда странно кивая.
– Глина… земля… – пробормотал он, когда Акива умолк. – Земля голодна, ребе. Земля старого погоста устала кости держать. Беспокойны они. А лес рядом… Зубровский лес… он помнит больше, чем все твои книги пергаментные, касатик. Он кровь помнит и огонь. Он зовет… детей своих. Тех, что из глины да из мрака.
– Что… что же мне делать, реб Мойше? – спросил Акива шепотом, чувствуя, как по спине снова ползут мурашки.
– Делать? – старик усмехнулся беззубым ртом, обнажая темные десны. – Бежать тебе надо, ребе. Отсель бежать, не оглядываясь. Место это гиблое. Или благословенное – как посмотреть. Для тебя тут больше нет… учения. Только урок. Жестокий урок. Жизни и смерти.
– Бежать? Куда? Как?
Мойше помолчал, прислушиваясь не то к шуму дождя, не то к чему-то еще, ведомому лишь ему одному.
– Иди… иди за черной водой, ребе. Туда, где река у старой мельницы поворот делает. Ищи… ищи там знак. Или человека. Того, кто с воронами шепчется. Он поймет. А книги твои… книги пока оставь. Они тебе теперь не помощники. Учиться придется другому. У грязи, у страха, у железа ржавого…
Старик закашлялся, тяжело, надсадно, и отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Акива постоял еще мгновение, пытаясь переварить туманные, как осеннее утро, слова Мойше. Черная вода? Старая мельница? Человек, говорящий с воронами? Бред сумасшедшего? Или… единственная соломинка, за которую можно ухватиться в этом болоте отчаяния?
Он посмотрел на серые крыши Полянок, на завесу дождя, на сытые, равнодушные лица старейшин, что только что выставили его за дверь. И понял – Мойше прав. Здесь ему больше нет места. Здесь его никто не услышит. А беда уже дышит в затылок. Нужно уходить. Немедленно. Искать черную воду и человека, говорящего с воронами. Что бы это, черт побери, ни значило. Решение было принято. Тяжелое, страшное, пахнущее неизвестностью и смертью, но единственно возможное.
Глава 5
Решение было принято. Тяжелое, как надгробный камень, и страшное, как безликая харя той твари с кладбища, но – принято. Ждать рассвета – значило дать страху время свить гнездо в душе, дать сомнениям заточить ржавые когти. Значило рискнуть передумать, струсить, остаться… и сгнить здесь вместе со всеми. Уходить нужно было немедля, под покровом ночи и дождя, как вор, как беглец.
Он вернулся в свою каморку, двигаясь тише тени. Что взять с собой в неизвестность? Руки сами потянулись к полкам с книгами – его единственному миру, его утешению. Но много ли унесешь на себе, когда бежишь от смерти? Он выбрал лишь две: старенький, зачитанный до дыр Хумаш* да небольшой, перевязанный тесемкой томик Зогара*, книги странной и туманной. Расстаться с ними было выше его сил. Книги он завернул в единственную запасную рубаху, худую, как и он сам.
К этому добавил огниво, кремень, маленький нож для резки пергамента, который сейчас казался нелепой зубочисткой против того, что могло ждать его там, в темноте, да краюху черствого хлеба, припасенную на самый черный день. Кажется, этот день настал. Все это добро он увязал в узел из старого платка. Деньги? Несколько мелких медяков, завалявшихся в дырявом кармане лапсердака. Хватит ли этого хотя бы на миску похлебки? Сомнительно.
Выскользнуть из штетла оказалось на удивление легко. Дождь лил как из ведра, ветер завывал в трубах погребальную песнь, и ни одна живая душа не решилась бы высунуть нос на улицу в такую собачью погоду. Он крался по размокшим, темным улочкам, как лис, пробирающийся в курятник, стараясь держаться в тени кривых домов. Сердце стучало где-то в горле от страха быть замеченным, окликнутым.
Вот дом Ханы – почерневшая герань у входа торчала, как обугленный палец, указующий на небо. Вот синагога – его дом, его крепость, его прошлая, понятная жизнь. Он на миг остановился, глядя на темные, слепые окна. Проститься? С кем? Со стенами? С книжной пылью? С собственными страхами и сомнениями? Тьфу! Он сплюнул и почти бегом устремился прочь, к окраине, к тому месту, где начинался черный, непроглядный Зубровский лес. Старое кладбище он обошел далеко стороной, сделав порядочный крюк по грязи – одного визита ему хватило на всю оставшуюся жизнь, если она у него еще будет.