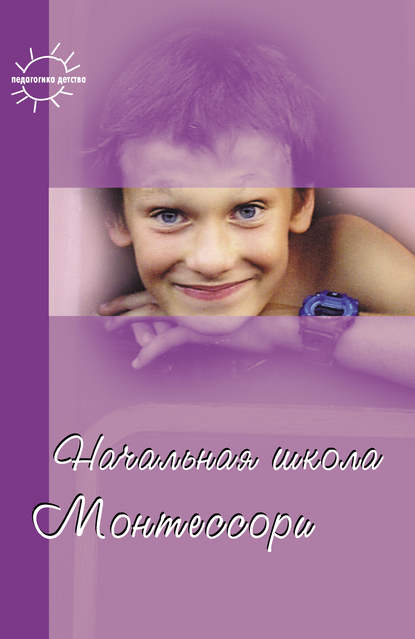Подражатели Таксидермиста

- -
- 100%
- +

Глава 1. Пыль архива
Тишина в архиве Управления уголовного розыска ГУВД Москвы была особого рода. Это была не живая тишина ожидания, как в пустом зале суда, и не мёртвая – как в заброшенной мастерской. Это была тишина забвения. Густая, сладковатая от пыли, въевшейся в миллионы папок, и горьковатая от чернил, постепенно выцветающих на приговорах, вынесенных десятилетия назад. Здесь, в подвальном помещении на Петровке, хранилась память системы. И часть этой памяти теперь была дырявой, как сгнившая ткань.
Младший лейтенант Ирина Сомова, недавняя выпускница академии МВД, присланная «на подмогу» архивному отделу, ощущала эту дыру кожей. Её задачей была рутинная проверка и оцифровка дел особой важности за последние десять лет. Дело под шифром «Таксидермист», том №4, значилось в списке. Но когда она подошла к соответствующей секции стеллажа, на полке между томом №3 (экспертизы) и томом №5 (фотофиксация мест происшествий) зияла пустота. Метка была, пыльный прямоугольник – да, а папки весом в добрые пять килограмм – нет.
Сначала она подумала, что ошиблась. Перепроверила журнал выдачи. За последний год том №4 не выдавался. Не значился он и в актах на уничтожение (срок хранения таких дел – вечность). Она обошла соседние стеллажи – может, переложили? Бесполезно. Ледяной комок страха, знакомый каждому мелкому клерку, потерявшему важный документ, сдавил ей горло. Пропажа материалов по такому делу – это не просто выговор. Это крах карьеры, не успевшей начаться.
Она побежала к начальнику архивного отдела, полковнику в отставке Михееву, дремлющему за стаканом остывшего чая.
– Товарищ полковник, дело «Таксидермист», том четвёртый… его нет на месте.
Михеев, не открывая глаз полностью, буркнул:
– Ищи лучше. Само не ходит.
– Я искала! Его нет! – в голосе Ирины прозвучала паника.
Это заставило старика приоткрыть один глаз.
– Не ори. Какие дела?
– «Таксидермист». 1998-2000 годы.
Оба глаза Михеева открылись полностью. В них мелькнуло нечто, кроме обычной сонной апатии – острый, живой испуг.
– Ты уверена?
– Абсолютно.
– Чёрт… – старик тяжело поднялся. – Никому ни слова. Поняла? Я… я доложу.
Но «доложить» оказалось не так просто. Доложить – значит признать вопиющий прокол в системе безопасности. Доложить – значит поднять на уши всё руководство. И, что самое главное, доложить – значит снова всколыхнуть дело, которое всеми силами старались забыть, похоронить под тоннами других, более свежих и менее позорных для ведомства преступлений.
Полковник Михеев решил действовать иначе. Он знал человека, для которого это дело никогда не было закрытым. Который, даже уйдя из уголовного розыска в отдел по детям, носил его в себе, как осколок. Он поднял трубку и набрал номер, который не набирал два года.
Андрей Громов сидел в своём новом, более светлом, но таком же заваленном бумагами кабинете в Управлении по розыску пропавших и несовершеннолетних. На столе перед ним лежала фотография девочки лет восьми, пропавшей неделю назад в Люблино. Улыбчивая, с бантами. Каждая такая фотография прожигала дыру в душе, но эта работа давала ему нечто, чего не было в уголовке: ясную, чистую цель. Спасти. Вернуть. Не наказывать.
Звонок застал его врасплох.
– Громов.
– Андрей Ильич, это Михеев, из архивного отдела.
Громов нахмурился. Михеев? Сухопарый, вечно недовольный старик, хранитель бумажного Аида. Что ему нужно?
– Слушаю, Пётр Васильевич.
– У нас тут… небольшая проблема. Касается старого дела. Вашего дела.
– Какого? – Громов почувствовал, как по спине пробежали мурашки.
– «Таксидермист». Том четвёртый. Пропал.
Слово «пропал» повисло в тишине кабинета, обрастая ледяными шипами. Громов медленно отодвинул фотографию девочки.
– Как пропал? Украли?
– Не знаю. Он не выдавался. Не списан. Его просто нет на полке. Обнаружила сегодня молодая сотрудница.
– Что в томе?
– Фото протоколы предъявления для опознания, черновые схемы с мест, часть заключений второстепенных экспертов… и главное – все изъятые вещественные доказательства небиологического характера. Эскизы. Записки. Те самые… «каталоги».
Громов встал, подошёл к окну. За стеклом кипела московская весна, грязная, шумная, живая.
– Кто имел доступ?
– Список большой. Все, кто работал по делу. Технический персонал. Я… – в голосе Михеева послышалась виноватая нотка, – я, честно говоря, после того как дело закрыли, особо не охранял. Кому оно надо, это позорище?
– Оно надо тому, кто видит в нём не позорище, – тихо сказал Громов. – А Библию.
Он велел Михееву ничего не трогать, никому не говорить и ждать. Положив трубку, он ещё минут пять смотрел на город. Пропажа тома не могла быть случайностью. Кто-то вытащил его из небытия. Кто-то, для кого дело «Таксидермиста» было не закрытой страницей, а священным текстом. Ученик? Поклонник? Или просто вор, решивший продать сенсационные материалы бульварной прессе?
Но инстинкт, тот самый, что когда-то вывел его на след Антона Воронцова, подсказывал: это хуже. Это начало чего-то нового. Споры страшной идеи, занесённой в мир, проросли. И первый росток пробился сквозь трещины в архивном бетоне.
Он взял со стола ключи. Ему нужно было увидеть это самому. Увидеть пустое место на полке, вдохнуть пыль забвения, смешанную со свежим запахом чужого интереса. Прежде чем идти к начальству, прежде чем поднимать панику, ему нужно было понять одно: это акт вандализма? Или акт поклонения?
Он вышел из кабинета, крикнув секретарше, что уезжает по срочному вызову. По дороге к архиву он невольно провёл рукой по шраму на предплечье – старому ожогу от летящей искры в горящем кинотеатре «Москва». Шрам ныл, как предчувствие. Тишина, которую он с таким трудом загнал в самую дальнюю комнату своей памяти, снова зашелестела. Негромко. Пока всего лишь шелестом страниц в тёмном подвале. Но Громов знал – это только начало. Призраки выходят из витрин. И они голодны.
Глава 2. Отпечаток
Архив встретил Громова всё той же гробовой тишиной, но теперь она казалась ему обманчивой, притворной, как тишина в засаде. Полковник Михеев, окончательно посеревший от беспокойства, ворчливо провел его вглубь хранилища, к тому самому стеллажу. Молодая лейтенант Сомова стояла рядом, вытянувшись по струнке, её лицо было бледным, глаза – испуганно-виноватыми.
– Вот, – Михеев ткнул пальцем в пустой прямоугольник на полке, резко контрастирующий с толстым слоем пыли вокруг. – Тут был. Исчез.
Громов не ответил. Он присел на корточки, достав из кармана небольшой, но мощный фонарик, который всегда носил с собой. Луч света скользнул по темно-серому линолеуму под стеллажом, по металлическим ножкам полок. Пыль здесь лежала ровным, нетронутым вековым саваном. Аккуратно вынули и унесли в руках или в сумке.
Он встал и направил луч на саму полку, на место, где лежала папка. Пыль здесь была сметена, но кое-где, в углублениях и царапинах старого дерева, остались её следы. И на одном таком участке, почти у самого края, луч выхватил нечто. Не просто нарушение слоя. Отпечаток. Чёткий, прямоугольный, размером примерно с небольшую книгу или толстый блокнот. Что-то лежало поверх папки, а потом было убрано. Громов наклонился ближе. Внутри прямоугольника пыли было меньше, она была как бы «вмята». Значит, предмет был тяжёлым. Он снял перчатку и осторожно провёл пальцем по контуру отпечатка. По краю чувствовалась лёгкая, липкая плёнка. Остаток скотча? Или клея? Что-то было приклеено к обложке тома.
– Что там? – прошептал Михеев.
– След, – коротко бросил Громов. – Кто-то прикрепил к папке что-то тяжёлое. Потом снял и унёс вместе с делом. – Он повернулся к Сомовой. – Вы первой обнаружили пропажу. Осматривали это место до того, как позвали начальника?
– Я… я только убедилась, что папки нет, и сразу побежала к полковнику, – запинаясь, сказала девушка.
– Ничего не трогали? Не опирались на полку?
– Нет! Клянусь!
Громов кивнул.Он верил ей. Испуг в её глазах был настоящим. Он снова посмотрел на отпечаток. Что это могло быть? Металлическая пластина? Планшет? Книга в твёрдом переплёте? И зачем крепить что-то к делу? Чтобы не забыть, какой именно том брать? Или это был своеобразный «экслибрис», знак того, кто теперь считал дело своей собственностью?
– Нужно опросить всех, у кого был доступ, – сказал Михеев, но в его голосе не было уверенности. Это означало бы официальное расследование, шум, проверки.
– Пока не нужно, – возразил Громов. – Дайте мне список. И журнал посещений архива за последний месяц. Неофициально.
Пока Михеев копался в своих бумагах, Громов отошёл в сторону и достал телефон. Он набрал номер, который знал наизусть, хотя и не звонил по нему больше полугода.
– Семенов.
– Капитан, это Громов.
– Товарищ майор? – в голосе бывшего подчинённого послышались и удивление, и неподдельная радость. – Что случилось?
– Встречаемся через час. У тебя на районе. Тихое кафе. Есть работа. Старая работа.
– Понял. Буду ждать.
Громов положил трубку. Семенов сейчас служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, но он был одним из немногих, кто прошёл через ад дела Воронцова от начала до конца. Он знал детали. И, что важно, ему можно было доверять.
Час спустя они сидели в заведении, больше похожем на столовую, где главными клиентами были таксисты и мелкие клерки. Семенов постарел, обрюзг немного от бумажной работы, но глаза остались теми же – умными и верными.
– Итак, товарищ майор, что за старое дело беспокоит? – спросил он, отпивая компот из сухофруктов.
– Из архива пропал том по делу «Таксидермиста». Четвёртый. С эскизами, записками.
Семенов замер со стаканом у губ, потом медленно поставил его на стол.
– Украли?
– Похоже на то. И не просто украли. Кто-то оставил след. Буквально. – Громов коротко описал отпечаток в пыли.
– Зачем? – Семенов нахмурился. – Продать журналистам? Коллекционерам?
– Может быть. Но мне кажется, цель иная. Кто-то изучает. Впитывает. Для кого-то это… учебное пособие.
Семенов побледнел.
– Подражатель?
– Пока рано говорить. Но первый звонок. – Громов отпил свой чай, он был холодным и горьким. – Мне нужна твоя помощь, Семенов. Неофициально. У тебя остались связи в уголовном розыске? Можешь мягко прощупать почву? Узнать, не было ли в последнее время странных разговоров, интереса к тому делу? Особенно среди тех, кто по нему работал.
Семенов кивнул, лицо его стало серьёзным, деловым.
– Будет сделано. Среди наших… знаешь, некоторые до сих пор считают, что Воронцов был каким-то… не знаю, гением, которого не поняли. Особенно те, кто в своё время провалил расследование по ложным следам. Чувствуют себя униженными. Могут идеализировать.
– Именно этого я и боюсь, – мрачно сказал Громов. – Унижение – мощный мотив. Смешанное с восхищением тем, кто оказался умнее системы… это гремучая смесь. Найди мне таких. Особенно обращай внимание на Морозова.
– Старший лейтенант Морозов? Тот, что вёл ту секту?
– Да. Он тогда сильно пострадал от моего разгрома его версии. Ушёл в тень, но обиду, я уверен, затаил. Проверь, что с ним, где он сейчас.
Они договорились о следующей встрече. Выйдя на улицу, Громов почувствовал знакомое, давно забытое чувство – вкус охоты. Но на этот раз он не знал, за кем охотится. За призраком. За тенью идеи, ускользающей из-под стеклянного колпака прошлого. Он посмотрел на серое, низкое небо Москвы. Где-то там, в этом каменном муравейнике, кто-то листал страницы дела, впитывая ядовитую философию Таксидермиста. И этот кто-то, возможно, уже выбирал первую жертву. Или уже выбрал. Оставалось только ждать, когда тень проявится в реальности. И Громов знал – ждать оставалось недолго.
Глава 3. Первая реплика
Дождь начался под утро, мелкий, назойливый, превращающий городскую грязь в холодную, серую жижу. Именно в такую погоду, когда люди спешат, уткнувшись в воротники, не глядя по сторонам, тело и обнаружили. Не в центре, не в знаковом месте. В спальном районе, у подъезда панельной девятиэтажки на улице академика Пилюгина. Обычный двор, скамейка, облезлая, покрашенная когда-то зелёной краской. На ней сидел мужчина. Первым его увидел пенсионер, выводивший на утренний моцион своего старого шпица. Собака заскулила и уткнулась мордой в ноги хозяина. Он подошёл ближе, крикнул: «Мужчина, вы чего? Спите?» Ответа не последовало. Фигура сидела неестественно прямо, в расстёгнутом милицейском плаще ещё старого, советского образца. На голове – форменная фуражка, надвинутая на лоб. Руки лежали на коленях. В одной был зажат пустой, смятый бумажник. Из кармана плаща торчала бутылка дешёвого портвейна «Агдам» на треть пустая. Типичная картина отсыпающегося после загула участкового. Такое в этих дворах видели не раз. Но что-то насторожило пенсионера. Неподвижность была слишком абсолютной. И лицо… Он подошёл вплотную, сквозь морось разглядел синеватый оттенок кожи, открытые, остекленевшие глаза, уставленные в пространство перед собой с выражением тупого, застывшего удивления. А ещё – запах. Не перегара. Резкий, химический, сладковатый. Пахло, как в поликлинике. Старик, перекрестившись, побежал к телефонной будке. Через сорок минут Громов, мокрый до нитки, стоял в этом самом дворе, за оцеплением из милицейских машин. Место уже облепили оперативники из местного РУВД, судмедэксперт, понятые. Но вызвали и его. Неофициально. Потому что начальник местного угрозыска, капитан второй категории, видевший когда-то фотографии с дел Воронцова, почуял неладное.
– Андрей Ильич, взгляните, – мрачно сказал он, отводя Громова в сторону. – Похоже? Громов подошёл к скамейке. Он смотрел не на тело – он смотрел на сцену. На композицию. «Пьяный участковый на скамейке». Клише. Штамп. Но выполненный с чудовищной, издевательской внимательностью. Плащ был старый, но чистый, пуговицы надраены. Фуражка сидела идеально ровно. Поза – не развалившегося в пьяном ступоре человека, а парадная, почти как у часового. И выражение лица… не страдание алкоголика, а именно удивление. Как будто человек увидел нечто настолько невероятное, что застыл с этим выражением навеки. – Он наш, местный, – пояснил капитан. – Участковый Иван Петрович Греков. Любил выпить, да. Вчера вечером ушёл с дежурства, домой не вернулся. Жена думала – загулял.
– Вскрывали? – спросил Громов, уже зная ответ.
– Предварительно. Смерть – асфиксия. Но не от рвотных масс. Что-то вроде паралича дыхательной мускулатуры. И… – капитан понизил голос, – его набили. Как чучело. Кто-то вынул всё нутро и набил каким-то… составом. Не опилками. Чем-то плотным, упругим…
Слова падали, как ледяные иглы. Метод. Узнаваемый метод. Но исполнение… Громов наклонился, всматриваясь в детали. Шов. Он был. Но не тот, ювелирный, почти невидимый шов Антона. Этот был грубее, выполненным явно менее умелой рукой, хотя и старательно. Видны стежки. Кожа вокруг шва была слегка растянута, деформирована – признак неидеальной натяжки. Это была не работа Мастера. Это была копия. Усердная, но неумелая. Пародия. И тут его взгляд упал на бумажник в руке покойного. Он был не просто смят. Он был раскрыт. И внутри, вместо денег или документов, лежал сложенный вчетверо листок бумаги. Громов, надев перчатку, аккуратно извлёк его. Это был обычный лист в клетку из школьной тетради. На нём было напечатано тем самым дребезжащим шрифтом, который он уже видел когда-то: «Приговор №1. Подсудимый: Греков И.П., участковый. Преступление: бездействие. Попрание доверия. Пьянство при исполнении (улица Академика Пилюгина, 12, кража со взломом, 1999 г., дело не раскрыто). Приговор: Вечное несение службы. На посту. СЕРИЯ – ПРАВОСУДИЕ.
П.С. Мастер ошибался. Искусство не должно быть оторвано от реальности. Наша реальность – грязь. Её и будем консервировать.»
Громов перечитал текст несколько раз. «Мастер ошибался». Прямой вызов. Отрицание эстетики Воронцова. «Наша реальность – грязь». Это был другой манифест. Более злой, более циничный, лишённый того болезненного, но всё же стремления к вечной красоте. Это была месть. Месть системе, конкретным людям, поданная под соусом «высшей справедливости».
– Капитан, – сказал Громов, поворачиваясь к начальнику угрозыска. – Это он. Вернее, они. Но не оригинал. Подражатели. И они только начали. «Серия – Правосудие». Значит, будут следующие. Он отдал листок экспертам и отошёл в сторону, под навес подъезда, пытаясь осмыслить. Пропажа тома из архива. Первая работа. Грубая, но уже несущая в себе идею. Они учатся. Они используют материалы дела как учебник. И их первый «приговор» вынесен не богачу, не интеллигенту, а своему же, мелкому служаке системы. Это был знак. Послание. Не обществу. Внутреннее послание системе: «Мы видим вашу гниль. И мы вам её предъявим. В буквальном смысле». У Громова зазвонил телефон. Семенов.
– Андрей Ильич, я кое-что выяснил. Насчёт Морозова. Он полгода назад уволился по собственному. Неофициально – его выперли. За пьянку и служебное несоответствие. Говорят, запил конкретно после провала с той сектой. Обижен на всех, особенно… особенно на вас.
– Где он сейчас?
– Пока не установил. Съехал с квартиры, прописан у какой-то тётки в Подмосковье. Но, Андрей Ильич, есть ещё кое-что. Пару месяцев назад в букинистическом на Арбате продавали книгу. Тот альбом графики. Алисы. «Энтомология тишины». И её купил, по описанию продавца, странный тип. Молодой, но с больными глазами. И он спрашивал… он спрашивал, нет ли ещё чего-нибудь о Таксидермисте.
– Продавец запомнил его? – спросил Громов.
– Говорит, тот произвёл впечатление. Был одет бедно, но говорил… как фанатик, – ответил Семенов.
– Найди этого продавца. Покажи фотографию Морозова. Узнай, он ли это,
– Есть.
Громов положил трубку. Мозаика начинала складываться. Обиженный, спившийся бывший оперативник, фанатично увлечённый делом, которое его сломало. Идеальный кандидат в «исполнители». Но где он взял знания по таксидермии? Где лаборатория? И главное – кто написал тот манифест? Морозов не был интеллектуалом. Кто-то был за ним. Идеолог. «Наша реальность – грязь». Кто мог сформулировать такую мысль? Громов посмотрел на тело участкового Грекова, которое аккуратно грузили в чёрный мешок. Первая реплика в диалоге с миром была произнесена. Грубая, злая, но чёткая. Теперь ждали ответа. И Громов понимал, что ответить должен он. Но для этого нужно было найти не просто преступника. Нужно было поймать призрак идеи, который уже начал бродить по городу, обретая плоть в самых уродливых его уголках. Охота, которую он считал законченной, начиналась снова. И на этот раз враг был множественным, расплывчатым и, возможно, ещё более опасным, потому что не был обременён гением – только ненавистью.
Глава 4. Старая коллекция
Квартира профессора Павла Игнатьевича Ловецкого на Ленинском проспекте была не жильём, а продолжением музейного хранилища. Двухкомнатная «хрущёвка» до потолка была заставлена старыми дубовыми шкафами, стеклянными витринами и этажерками. Воздух был густым от запаха нафталина, камфоры и пыли – того самого архивного букета, который Громов уже вдыхал сегодня. Но здесь был ещё один оттенок – слабый, едкий, знакомый: формалин.
Сам хозяин, сухопарый старик в застиранном домашнем костюме и с бирюзовыми жилками на висках, напоминал хорошо сохранившийся экспонат собственной коллекции. Его движения были медленными, точными, глаза за толстыми стёклами очков – блестящими и невероятно живыми, как у ящерицы. Он приветствовал Громова не как незваного гостя, а как коллегу, наконец-то проявившего интерес к его работе.
– Майор Громов, да-да, конечно, я слышал, – проскрипел он, усаживая гостя на единственный свободный стул перед столом, заваленным книгами и с микроскопом. – Вы ведь имеете отношение к тому печальному делу с моим, можно сказать, духовным внуком. С Антоном. Трагическая фигура. Гениальная и трагическая.
– Вы знали его отца? – спросил Громов, делая вид, что рассматривает ближайшую витрину с рядами идеально расправленных бабочек. Каждая была подколота булавкой, снабжена аккуратной этикеткой с латинским названием.
– Сергея Петровича? Ещё как! Работали в одном музее. Блестящий энтомолог. Холодный ум. Преданный форме. Антоша весь в него. Только пошёл дальше, в область позвоночных. В область… макроформы. – В голосе старика звучало не осуждение, а профессиональное восхищение. – Его работы, те, что я видел на фотографиях в газетах… это был новый шаг. Не просто таксидермия. Морфология человеческого типажа в его среде. Потрясающе!
Громов почувствовал, как по спине пробегает холодок. Этот человек говорил о серийных убийствах как о научном прорыве.
– Вы считаете его действия оправданными? – спросил Громов.
– Оправданными? – Ловецкий сделал паузу, поправил очки. – С точки зрения закона, морали, человечности – конечно, нет. Это чудовищно. Но с точки зрения познания… он вскрыл не просто тела. Он вскрыл социальные слои, зафиксировал архетипы. Библиотекарь. Мечтательница. Потребитель… Это каталогизация, майор! Высшая форма каталогизации живого, вернее, ушедшего из жизни материала. Его отец коллекционировал насекомых. Он пошёл дальше.
Громову стало физически нехорошо. Он перевёл взгляд на другой шкаф. Там, в банках с желтоватой жидкостью, плавали змеи, ящерицы, мелкие грызуны. Всё идеально препарировано, с этикетками.
– Вы и сейчас занимаетесь таксидермией?
– По старой памяти. Для себя. Для науки. Новых экспонатов не добываю – сил нет. Но старые коллекции поддерживаю в порядке. Консервация – это искусство вечности, майор. – Он вздохнул. – Жаль, что наследие Антона пропало. Его «Каталог» должен был быть опубликован. Как атлас. Это была бы сенсация в… определённых кругах.
– Наследие не совсем пропало, – осторожно сказал Громов, наблюдая за реакцией. – Часть материалов, как я слышал, даже попала в частные руки.
Ловецкий не дрогнул. Лишь его блестящие глаза сузились за стёклами.
– В частные руки? Интересно. Неужели нашлись ценители? Обывателей его работы пугали. Но для подготовленного ума… – он замолчал, и в тишине комнаты было слышно, как тикают настенные часы в форме жука. – Вы не потому ли пришли, майор? Проверить, не у меня ли эти материалы?
– Я пришёл к Вам, как к эксперту, Павел Игнатьевич. Сегодня утром было обнаружено тело. Обработанное по схожей методике. Но работа… грубая. Подражательная.
На лице старика впервые появилось не научное любопытство, а что-то вроде брезгливости.
– Подражательная? – переспросил он, и в его голосе прозвучало презрение. – Фальшивка? Карикатура?
– Вот именно. И рядом был оставлен текст. Манифест. В котором говорилось, что «Мастер ошибался», что «реальность – грязь» и что её надо консервировать. Что вы об этом думаете?
Ловецкий откинулся на спинку своего кресла, сложив пальцы домиком. Он смотрел куда-то поверх головы Громова, в пространство, заполненное рядами застеклённых ящиков с жуками.
– «Мастер ошибался»… – повторил он задумчиво. – Это точка зрения дилетанта. Того, кто не понял сути. Антон не консервировал грязь. Он очищал её. Извлекал из хаоса чистую форму. А этот… этот подражатель, он, выходит, наоборот, хочет законсервировать сам хаос. Выставить его напоказ. Это примитивно. Это вандализм по отношению к самой идее.
– То есть вы осуждаете этого подражателя?
– Как учёный – да. Он профанирует метод. Он использует скальпель не для препарирования истины, а для удовлетворения каких-то своих мелких, грязных обид. – Ловецкий посмотрел прямо на Громова. – Если вы ищете его, майор, то вам следует искать среди тех, кто ненавидит систему, но не имеет ни ума, ни таланта для создания чего-то большего. Обиженного мелкого чиновника. Выгнанного полицейского. Несостоявшегося художника-графомана. Примитивный ум, вооружённый опасными знаниями.
Слова старика били точно в цель. Он описывал Морозова. Но делал это так отстранённо, так научно, что невозможно было заподозрить его в причастности. Он был как судья на конкурсе, разбирающий неудачную поделку.
– А знания эти где можно получить? – спросил Громов. – Методика, химические составы…
– В специальной литературе. В старых учебниках. У людей вроде меня, – Ловецкий развёл руками. – Знания нейтральны. Их можно использовать для сохранения музейных экспонатов, а можно… для того, о чём вы говорите. Я, разумеется, никому не давал таких консультаций. Моя область – беспозвоночные.
Громов встал, поблагодарил за беседу. На пороге он обернулся:
– Павел Игнатьевич, а если бы к вам обратился такой… обиженный человек. С просьбой помочь разобраться в методиках Антона. Что бы вы сделали?
Старик посмотрел на него своими ящеричьими глазами, и в них на мгновение мелькнул холодный, безжалостный огонёк.