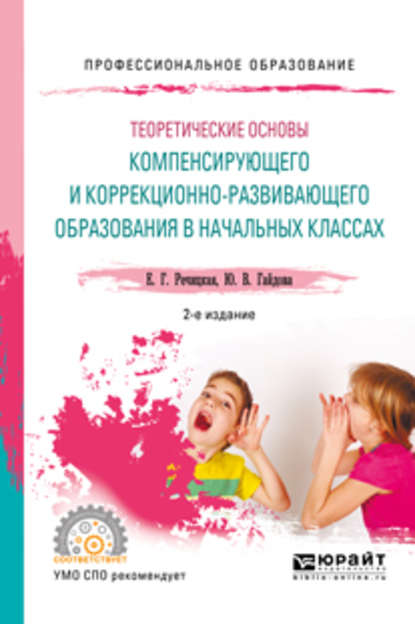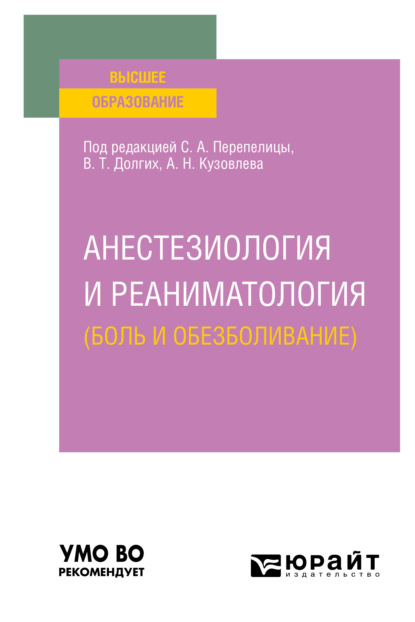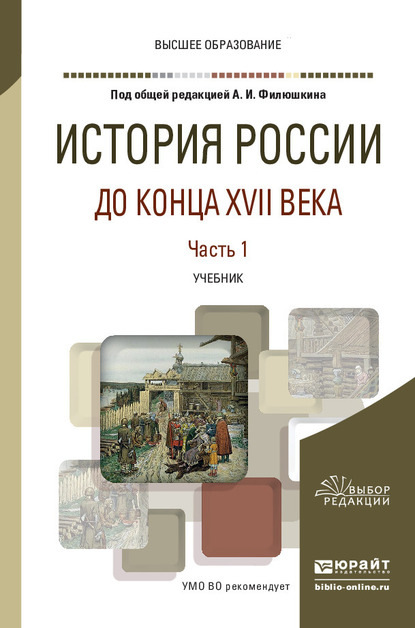- -
- 100%
- +
И служители повзьӧм-айка для неё – не диковинка, впервые увиденная: во всех мирах обитало, порой таясь, порой – не особо, множество презренной грязи; встретив таких, она старалась порезать их на столь мелкие кусочки, что ни одним заклинанием не собрать воедино те жалкие кровавые ошмётки, что оставались после её работы, а души их, поганые и осквернённые, нещадно кромсала, напитывая Вундан. Кимӧ мог оскорблять её, уравнивая с сьӧд-аддзысь, но кто ещё защитит бренные островки жизни от ходящих за околицей кошмаров? Вир-каттьыны, по всей видимости.
– И они ещё не?
– Они ещё не, – кивнул Кимӧ. – Но близки. Думаю, ты чувствуешь.
Странно, если бы нет.
– Значит, ты хочешь стать спасителем мира?
Но Кимӧ не ответил на её выпад, только схватил за руку, притянул резко к себе и шепнул на ухо, тихо-тихо:
– Скоро мы выйдем к городу, от которого остались лишь скелеты брошенных домов. Но мы не выходим на дорогу, не заходим глубоко в лес и стараемся идти опушкой.
– Почему? – едва шевеля губами, спросила Авья.
– Где-то ходит порченный человеколось. Я чую его.
– Далеко?
Это было единственное, что её интересовало.
Вопреки представлениям несведущих простецов, люделоси не были аддзысь; они владели магией, общались с духами и прочими сущностями разной степени сомнительности, слышали мир вокруг и знали многое, но разница заключалась в том, будущие люделоси, некогда туны или тöдысь, рождались такими, склонными к колдовству (за счёт ли внутренних сил или избрания духами-помощниками, не столь важно), а аддзысь проходили специальные обряды, чтобы обрести свои силы. Аддзысь становились одиночками, а люделоси, пусть и жили в уединении, всегда находились близко к людям; многие и вовсе становились во главе поселений – либо же подле более приземлённых лидеров, не связанных с потусторонним. Авья многих из них знала – и знала, что ставшие люделосями тöдысь, при всём своём могуществе, невероятно уязвимы для порчи.
– Достаточно близко, чтобы я ощущал его, но недостаточно близко, чтобы он ощутил нас. Думаю, порядка… десяти вёрст, не больше.
Чутьё у вир-каттьыны невероятно острое – если только Кимӧ не решил её запугать и если в самом деле чует на таком расстоянии.
Авья кивнула:
– Веди.
Выжженное, по-кладбищенски тихое поле осталось позади; Кимӧ шёл, изредка оглядываясь на свою спутницу, как проверял, не ушла ли она дальше положенного. Под ногами хрустко прогибалась, рассыпаясь прахом, хвоя – Авья даже прикрыла на миг глаза, вспоминая, как дивно утопают босые ступни в размягчённой осенней хвое, как чудно идти, вдыхая ароматы древних сосен, и как отрадно наступить в ледяной извилистый ручеёк журчливо размывающий глинистые склоны своего русла.
Но здесь было не так, и опушка – не светлее и радостнее леса, в глубины которого Кимӧ не повёл её, опасаясь порочных. Искалеченные, по-змеиному извёрнутые деревья, на чьих измятых, морщинистых, иссохших стволах будто проступали увечные лики забытых божеств, не без причин похороненных под эонами времени. Эти деревья напоминали ей барельефы в первозданных шойнах и керку, потерянных тысячелетия назад глубоко под землёй; Авья спускалась в глубины, где никогда не видели солнца, и зрела места, существовавшие до начала времён, где рассматривала азоические фрески, выложенные причудливыми камнями и повествующие о ритуалах столь гадких, что даже от каменных их изображений будто шёл гнилостный смрад скверны. Она, не оглядываясь, шла следом – только украдкой присмотрелась к дороге; понимала, что не пошли, ведь так будет их проще заметить, но и взрытая, как ранами, земля, размокнувшая после дождя, не выглядела проще, чем идти шаг в шаг за проводником, стараясь не задевать лишний раз цепкий жухлый кустарник и не ломать хрустко тонкие веточки.
Они приближались к городу – вернее, к тому, что от него осталось; и осталось, судя по запаху, немного. Пахло удушливо застарелой затхлостью; а что могло сгнить и стлеть, уже сгнившее, истлевшее и изъеденное зверьём, но Авья была готова увидеть. Чем скорее приближались они, тем нестерпимее становилась ломота в костях; она шепнула свистяще:
– Подожди меня. Я сейчас…
Вышитый василёк смотрелся серым, а не насыщенным синим, на бездонной сумке, из которой Авья извлекла тинктуру, изготовленную по собственному рецепту и должную ослаблять воздействие злонамеренного колдовства; горькая и маслянистая, она не лезла в горло, но, сдерживая рвотный позыв, Авья проглотила снадобье. Кем бы ни были тамошние колдуны, а своих врагов они знали отлично.
– Легче?
– Гораздо, – Авья гулко кашлянула.
– Стоило подумать, что они защитились, – Кимӧ покачал головой. – Прости.
– Сама тоже молодец, – отмахнулась она, лишь бы не показать сбившего с толку собственного же смущения столь внезапным и тихим, на грани слышимости, извинением. – Это… не самое частое явление. Сравнительно редкое.
Но и раскрывать все тайны запутанных магических сношений адззысь она не собиралась тоже, пусть и Кимӧ глядел на неё испытывающе, в ожидании; да безмолвный обмен взглядами долго не продлился: Кимӧ вышел на дорогу, Авья – следом. От города остались каменно-деревянные остовы домов, и даже падальщики оставили это место, даже пыльнокрылые вороны, эти беспринципные трупоеды-мусорщики, брезговали: на подгнивших межэтажных балках висели, не качаясь, скелеты – взрослые и детские, мужские и женские.
Город сломала зараза страшнее чумы – война.
Авья едва различала истёртые надписи на камнях, угловатые и резкие: кокэ-у-лэй-омега-мэно, кулӧм; пэй-омега-лэй-омега-мэно, полом; пэй-омега-вер-зата-и-омега-мэно, повзьӧм; пэй-э-мэно-ыры-тай, пемыт, вер-ан-и-нэно-ыры, вайны; кокэ-омега-зата-и-нэно-ан-вер-ыры-ыры, козьнавыы – и хорошего они не значили.
– В последний раз я видел одну из них, Юавлыны, в этом городе, но запах её и след стёрлись для меня, – Кимӧ покачал головой. – Ты можешь отследить её? Она колдовала здесь. Приносила жертвы, если важно. Всё это – её рук дело.
– Почему бы нам просто не пойти по следам войны?
Кимӧ усмехнулся:
– Война везде. А я слышал, что аддзысь отменно ищут по оставшимся после колдовства следам своих сородичей. Или врут?
– Не врут.
Пусть тöдысь, ставшие люделосями, были сильнее среднего аддзысь, они платили за могущество и постоянную связь с духами и миром вокруг хрупкостью разума и невероятно высокой склонностью к одержимости, а большинство и вовсе добровольно впускали в себя духов и учились жить со многими голосами в одном теле; аддзысь же вынуждены снимать ментальные барьеры с разума, чтобы открыться миру сколько-нибудь, и, например, взять чужой след по отпечатку, но и просто так раскрошить аддзысь изнутри – практически невозможно.
Нечуткость – их плата за броню.
– Готовься, – отрывисто проговорила Авья. – Если, как говоришь, здесь бродит порченный человеколось, он меня почувствует сразу. Будь готов… ко всему.
Кимӧ кивнул.
Его кожа посерела, как посыпанная пеплом, а глаза налились кровью; его руки словно сломало назад под неправильным, вызывающим дурноту углом, но он сдержал крик, рвущийся наружу, и только утробно не то застонал, не то заурчал, а Авья уставилась во все глаза, забыв про приличия. Она впервые наблюдала превращение вир-каттьыны, а о том, чтобы узреть в такой близости, и вовсе мечтать не могла. Его лицо заострилось, будто кто-то прошёлся грубо ножом по его скулам, уши оттянуло назад, и казалось, что Кимӧ, как костюм, надел на себя сущность, не представлявшую себе, что такое – человекоподобие. Непропорционально длинные ноги переступили неуклюже, прорвавшимися когтями он вцепился в землю и вновь застонал – почти в голос, почти мучительно; Авья, пусть и плохо знала Кимӧ, но узнавала его глаза – горящие красным огнём, его улыбку, даже обезображенную сейчас болью. С него текла на сухую землю кровь: вышедшие из плоти перепонки крыльев брали положенную жертву, и Авья смотрела, смотрела, запоминая каждую деталь. Он походил на летучую мышь, какую скучающий колдун пожелал превратить в человека, но бросил на половине пути, пресыщенный и уставший.
– Так подойдёт, – только и смогла проговорить Авья.
А Кимӧ ей улыбнулся, если эту по-звериному злобную усмешку человекогундыра; и она скорее догадалась и додумала, чем услышала:
– Действуй, я рядом.
Авья приоткрылась миру, и поток хлынул на неё.
Весь город – огромное жертвоприношение ведателей мрака, подумалось ей. Весь мирный и тихий, спокойный городишко, где на центральной площади раскинулся рыночная, с витающими в воздухе ароматами свежеиспечённого, хрустко-ломкого хлеба, ещё покрытой росой зелени, душистых специй, солёной морем рыбы и козьего сыра, привезённого ранним, свежим и прохладным, утром фермером из своего небольшого хозяйства близ городка. Время как остановилось, а жизнь – размеренная и спокойная, всегда без новостей, а потому скучная для особо активной молодёжи, устраивающей на полях игрища с прыжками через костёр летними ночами, но предсказуемая и очевидная безоблачным будущим. Коснувшись в поисках следов ведателей мрака тонких материй, Авья увидела и услышала людей, ещё живых; на мгновения она стала одной из них, беспечной горожанкой, держащей пивоварню и добавляющей в медовуху аптекарские травы, от чего та приобретала дивные вкусы и привлекала в город жаждущих попробовать пряные медовухи.
Война всех против всех, как сказал Кимӧ, началась не столь уж неожиданно для местных: соседнюю республику лихорадило пару зим как до войны; и ко власти пришёл тот, кто после назвал себя Верховным Ведателем – помпезно и ограниченно, на взгляд Авьи, уныло и избито, прямо-таки до тошноты клишированно и услышано ей многие и многие разы прежде, но жутко и непонятно для местных – и кто отправил войска на соседа. Не захватывать, не обращать в свой культ, не присоединять, не покорять, а убивать, разрывать, сжигать, съедать и уничтожать.
Авья до боли в рёбрах вдохнула, как если бы её душили и вдруг отпустили; схватилась за горло и зажмурилась, пока перед глазами не поплыли светящиеся шары, согнулась пополам и дышала носом, успокаиваясь; Кимӧ крепко схватил её за плечи, не дав упасть, и в краткий миг она была благодарна, пока не утонула снова. Она знала не имя, но сущность – Юавлыны; а сущность – это ниточка, по которой всегда можно кого-то найти. Лучше сущности – разве что имя, но аддзысь скрывали их и при посвящении принимали личину. Юавлыны, похоже, маскироваться умела, иначе бы не получила такого имени, подумалось Авье где-то на грани сознания, но даже ей не скрыться от особо чуткого взора. Но, открытая для любого воздействия и будто обнажённая, Авья не завидовала сейчас люделосям. И как вовсе могли они, не теряя разумов, выносить все эти истошные вопли, доносящиеся со всех сторон? Как цеплялись за разум, когда наружность пыталась изодрать тебя в клочья? Как не теряли рассудок, когда слышали всё и сразу, ощущали каждое существо, видели все нити, следы и тропы?
Юавлыны оказалась совсем не такой, какой успела нарисоваться воображению Авьи; она увидела маленькую девочку, зим двенадцати, чьим невинным ликом обманываться не стоило, с прямыми каштановыми волосами, едва доходящими до плечей, и мёртвым взглядом тысячелетнего чудовища, за чьей спиной, положив когтистые лапы на плечи, стоял, покрытый тенью космического мрака, повзьӧм-айка. Адззысь, вне всяких сомнений; аддзысь из тех, кто не смог пройти посвящение и решил обменять нечто особо ценное на колдовское могущество. Авья встречалась с такими: обыкновенно они замирали в возрасте неудачного поедания лягушкой и не менялись боле никогда; а всё, что их выдавало, – взгляд. Повзьӧм-айка охотились на них (впрочем, не то чтобы охотиться приходилось: отчуждённые от общины изгнанники, каких полагалось убивать на месте во избежание, сами искали мести и, горя огнями чистой злобы, приманивали дурное), а общины – отвергали и считали дурным знаком, что кто-то не смог справиться; и, как правило, новоявленные аддзысь убивали своих “родственников”. И не сказать, чтобы Авья не могла понять.
След Юавлыны – яркий, сочный и особенный, кровавый настолько, что от железного аромата закружилась голова и замутило, сжав до рвоты пищевод; и Авья точно знала теперь, куда он тянулся… Она не понимала, не слышала, не ощущала, что Кимӧ не отпускал её, тряс, бил по лицу, только чтобы она очнулась, пока что-то истошно завопило сотнями голосов.
Затрещали хлипкие деревья, иссушенные тёмной магией, повалились, скрипя, на землю; и из-за них, воткнутых в землю, как кости, показался он – порченый человеколось. Он вывалился из леса, будто вырванный из плоти мира, из самой раны реальности. Его тело – не плоть, а каркас боли, обтянутый треснувшей кожей, на которой пульсировали чёрные жилы, будто червивые корни, а в глазницах, где когда-то были глаза, плясали сотни искр – отражения тех, кто жил вопреки воле внутри него теперь. Он дышал не воздухом, а криком: каждый вдох – вопль, каждый выдох – мольба, искажённая до неузнаваемости. Наверняка почувствовал, как Авья сняла барьер, вечно ограждавший её разум от потрясений мира снаружи, и помчался, ведомый слепой болью и всепоглощающей яростью, на заполыхавший поблизости не костёр, но пожар. Человеколось страдал, мучимый духами, кричащими внутри него так оглушительно и так отвратительно, что, коснувшись зазвеневшего и стрельнувшего коротко острой болью уха, Авья увидела кровь на пальцах; и Авья не сомневалась: он не сам на это пошёл, не сам себя извратил.
Циклопически и непритязательно здоровенный, с вытянутыми, словно на дыбе, ногами и руками, вершающими неестественно короткое тело, выше самой Авьи раза в три, увенчанный раскидистыми рогами, человеколось вышел к обломкам города. Даже перевоплощённый Кимӧ смотрелся в сравнении с ним, рычащим и клокочущим, крохотной летучей мышью, ненароком встретившей горного гиганта.
Так близко, так чудовищно.
Авья закричала, срывая голос:
– Задержи его! Как сможешь, задержи!
Кимӧ не ответил ей, но взревел и, оттолкнувшись, взлетел, распахнув мгновенно крылья, ещё сочащиеся кровью, хлестнул ими по воздуху – и вновь завопил, бросаясь не в атаку, но в отвлечение. Сколько минут он сможет ей выкроить? Сколько сможет выстоять против порченного человеколося?
От одной мысли, что всё может закончиться прямо сейчас, Авья похолодела.
Её нос хлынул кровью – тонкой, тёмной струйкой, как будто разум вырвался наружу через ноздри. В ушах застучало, будто сотни сердец бились в такт, а кожа покрылась мурашками, будто её обнажили посреди зимы.
Но она не дрогнула. Не могла.
Когти Кимӧ впились в бок чудовища, оставляя борозды, из которых не текла кровь, а чёрная слизь, шипящая на жухлой серой траве, как расплавленный металл. Его крылья, ещё не зажившие после превращения, хлестнули по лицу чудовища – и кожа на них лопнула, брызнув кровью. Он вгрызся зубами в горло порченого, рванул – и вырвал клочок плоти, из которого выпорхнули клубы чёрного дыма, визжащие голосами. Но человеколось лишь мотнул головой, будто отгоняя муху.
Он шёл прямо на Авью – на источник боли, на ту, чей разум стал открыт и манил его. Авья стояла неподвижно, сосредоточившись. Она сняла барьер – даже нет, одним беспощадно резким движением воли содрала махом с себя последнюю оболочку, ту, что отделяла её от хаоса.
И чужой мир ворвался в неё.
Сотни голосов ударили в её сознание – не лишённые смысла крики, а целые жизни, разорванные на клочки, впаянные в плоть и сущность одержимого. Дети, старики, воины, колдуны – все они были там, внутри, и все они молили о конце, о смерти, о забвении, ибо больше не могли выносить омерзительного и противоестественного существования. Это было не её вторжение – это было похоже на погребение заживо. Каждый крик – как гвоздь в череп, каждая мольба – как нож в сердце; и она тоже хотела закричать, но не смогла: её собственный голос утонул в визге гибнущих душ. И сквозь этот гомон, сквозь какофонический хор страданий, прозвучал один умоляющий голос – чистый, почти человеческий:
– Убей меня.
Она поняла его. Осмыслила.
То был голос самого человеколося – того, кем он был до того, как его извратили в сосуд для мрака забавы ради. Не аддзысь, не сьӧд-тöдысь, не предатель – просто человек, шаман, целитель, живший в единении и гармонии с лесом и людьми, всегда приходивший на помощь, едва позовут, и не ожидавший ничего взамен, ибо в том его суть и страшная горечь – не сумевший уйти, когда нуждались и плакали, а потому попавший в ловушку. Его разум ещё не стёрся полностью и держался за последний осколок себя.
Порченный отшвырнул Кимӧ в сторону, как тряпичную куклу; он ударился о ствол обугленного дерева и рухнул на колени, хрипя, с разорванным крыло, но встал вновь – и плюнул кровавыми лезвиями, но человеколось отмахнулся от них, словно вовсе не заметил даже.
Авья не достала Вундан, не произнесла заклинания и не наложила печати – она просто вошла в его разум, не закрытый никакими вратами; вошла не как врач и не как палач, а как та, кто понял боль. Она увидела всё: как его привязали к камню под луной, как Юавлыны впивалась в его плоть не ножом, а заклятием, как повзьӧм-айка вполз в него через глаза, как духи, которых он когда-то призывал с благоговением, теперь рвали его изнутри, не даруя ни сна, ни покоя, ни даже забвения.
– Убей меня, – повторил голос. – Умоляю.
Авья протянула руку – и ударила по его разуму, разбив его на миллиарды осколков. Она не убила его. Она разрушила то, что осталось от него – не в ярости, не в гневе, не в триумфе, а с той же нежностью, с какой ломают шею умирающему зверю, чтобы тот не мучился. Она взяла его сущность – всё, что в нём ещё было нечто, и обратила в ничто. Удар отдался в ней самой – как если бы она ломала собственные кости, выдирая из себя то, что связывало их в единое целое. На миг Авье почудилось, что её сущность начинает крошиться вместе с его, и она запаниковала, но не остановилась, пока человеколось не застыл.
Его рога потемнели углём и рассыпались в прах. Его кожа пошла трещинами, будто высохшая глина. Его глазницы погасли. И тело рухнуло – не как падает труп, а как рушится дом, из которого выдрали всё: стены, полы, крышу, душу. Осталась лишь груда пепла и костей, не достойная даже имени. Из пепла взвились сотни, если не тысячи, прозрачных силуэтов – и, не издав ни звука, растворились в воздухе, точно и не бывало. Они не поблагодарили словами, но в этом исчезновении была высшая благодарность: их свобода облегчила ношу Авьи.
Всё было кончено.
Кимӧ смотрел на неё не с благодарностью – с изумлением.
Авья не двинулась с места, пока не перестала дрожать земля под ногами. Пепел ещё курился, будто душа не спешила покидать останки, и ветер, что до этого молчал, завыл – не по-звериному, а по-человечески, с тоской и болью. Она опустилась на колени, не заботясь о грязи и пепле, и расстегнула сумку.
Сначала – огонь.
Она выложила круг из сушёных веток тацитума лекарственного, сабессы болотной и эгеры лесной – тех, что очищают не тело, а душу. Затем положила в центр пучок сабессы гигантской, связанной нитью из лебяжьего пуха, – чтобы дух не блуждал, а знал: его ждут. Из кармана платья достала три щепотки серой земли с могилы великого провидца, что хранила как святыню, и рассыпала вокруг костра. Эта земля помнила голоса ушедших – и примет нового.
Кимӧ стоял в стороне, не мешая, не дыша. Он видел, как Авья, не колеблясь, провела серпом по ладони – не глубоко, но достаточно, чтобы кровь упала на пепел. Капли зашипели, будто дотронулись до раскалённого железа.
– Ты был человеком, – прошептала Авья на языке племени пемытов, на котором молились только в самые тяжкие часы. – Ты был шаманом. Ты был целителем. Ты не просил стать сосудом для мрака. Прими мой кровавый дар – не как жертву, а как знак: я помню тебя не как чудовище, а как того, кем ты был.
Она поднесла к губам лебяжье перо от самой Белой Лебеди – не для магии, а для благословения. Белая Лебедь, в легендах племён севера, несла души умерших через реку огня в Страну Без Ветра, где нет боли, нет голосов, нет одержимости – только покой. Перо коснулось пепла, и тот на миг засветился серебристым светом.
Затем Авья достала звериные обереги – бронзовые и латунные, звенящие, как колокольчики в тишине. Один за другим она вложила их в пепел:
– Этот – от злых духов. Этот – от забвения. Этот – чтобы имя твоё не стёрлось из памяти мира. Этот – чтобы в следующем круге ты родился не в боли, а в тишине. Этот – чтобы никто не осмелился снова погрузить в тебя мрак.
Она не знала его имени. Но знала его суть – и этого было достаточно.
Из сумки появилась маска в полтора локтя, ритуальная, с резьбой в виде лебедя и луны. Авья осторожно положила её поверх пепла – не как надгробие, а как личину возвращения. Человеколоси, по верованиям древних, носили маски не для сокрытия, а для соединения – с лесом, с духами, с небом. Эта маска станет его последним обличьем в этом мире.
Потом – вода.
Она вылила из фляги росу, собранную на рассвете с листьев мистиции великолепной – растения, что цветёт только в местах, где ступали боги. Вода впиталась в пепел без шума, и земля под ним потемнела, будто впитала слёзы.
Наконец – слово.
Авья встала, подняла Вундан. И, глядя в небо, где уже начали мелькать первые звёзды, запела. Не на языке кидугил, не на языке пемытов, а на древнем языке человеколосей, который она выучила по обрывкам, найденным в руинах капищ, по надписям на костях, по шепоту ветра в рогах мёртвых.
Рога твои – не оружие, а ветви, что тянутся к луне.
Глаза твои – не пустота, а озёра, где отражался свет.
Ты не был монстром. Ты был мостом.
И мост, разрушенный, всё равно остаётся путём.
Пусть земля примет твой пепел.
Пусть ветер унесёт твои стоны.
Пусть лебедь унесёт твою душу.
И пусть никто не посмеет сказать: “Он был ничто”.
Потому что он был нечто – и именно за это его и убили.
Голос её сорвался на последнем слове. Она опустила голову.
Кимӧ молчал. Но подошёл ближе и, не глядя на неё, положил рядом с маской свой клык – отломанный, чёрный от крови, но чистый внутри. Это был жест вир-каттьыны: признание. Даже чудовища знали, когда видят жертву, а не врага.
Авья не поблагодарила словами и молча кивнула.
Она засыпала пепел землёй – не одной горстью, а тридцать три раза, как того требовал обряд погребения тех, кто умер от чужой магии. Каждая горсть – с именем одного из тех, чьи души были в нём: ребёнок, старик, воин, колдунья… Она не знала их имён, но называла их брат, сестра, отец и мать, потому что в смерти все – родные.
Когда курган был готов, она воткнула в его вершину лебяжью дудочку, ту, что хранила для особых случаев. Если душа вернётся – она услышит музыку и не испугается. И только тогда, когда всё было сделано – огонь, вода, слово, кровь, обереги, маска, клык, дудочка, земля под курганом потеплела – не от огня, а от чего-то живого, глубинного. Сквозь пепел, ещё тёплый от ритуального пламени, пробился первый росток – тонкий, хрупкий, но упрямый. Авья узнала его сразу: абсурдия лиловая, причудливый цветок. Его лепестки ещё не раскрылись, но уже источали слабый фиолетовый цвет. Вокруг кургана, где только стояла мёртвая тишина, зашуршала хвоя – не от ветра, а от того, что деревья вздохнули. Их корявые ветви распрямились, кора потемнела от влаги, будто напилась дождя. Даже воздух стал легче – исчезла та липкая тяжесть, что давила на грудь с самого подхода к городу.
Авья провела ладонью по земле. Под пальцами пульсировала слабая, но чистая магия – не та, что выжигала, а та, что лечила. Она вспомнила слова старой пемытской поговорки: “Когда умирает мост, земля плачет. Но если его похоронить по правде – она цветёт”.
И вот – она цвела.
Авья прошептала, почти беззвучно:
– Смерть любого из них – подлинная трагедия.
И в этих словах не звенело бездумного пафоса, только усталость. Только боль, которую она теперь носила в себе. В груди у неё осталась пустота – не физическая, а духовная. Как будто вырвали кусок души и вместо него оставили дыру, через которую теперь дует холод из иных миров. Она знала: это – плата за то, чтобы превратить нечто в ничто. Не просто убить. Не просто стереть. А освободить, разорвав все нити, что связывали его с бытием.
Такие удары не проходили бесследно. Каждый раз, когда аддзысь ломал чужую сущность, она ломала и свою, потому что магия не терпела односторонних жертв. Чтобы уничтожить – нужно отдать. Чтобы освободить – нужно взять на себя. И теперь, в этой пустоте, эхом звучал не крик человеколося, а тишина – та самая, что была до него. И эта тишина была страшнее любого вопля. Авья сжала кулаки. Она не плакала. Не могла. Но в горле стоял ком – не из слёз, а из слов, которые она не смогла бы сказать ему при жизни. Прости, что не пришла раньше. Прости, что не смогла спасти тебя целиком. Прости, что пришлось убить, чтобы освободить.